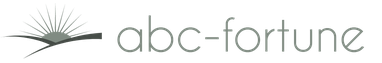Известный журналист вновь покидает Россию: она потеряла надежду на то, что в стране что-то изменится к лучшему. Она уезжает в Великобританию. Это вторая эмиграция из России: в 1974 году без надежды вернуться Слоним бежала из СССР и прожила в США и Великобритании до начала 90-х...
За границей она работала в издательстве «Ардис» и в Русской службе BBC. Вернувшись в Москву, Слоним продолжила заниматься журналистикой: сотрудничала с западными телеканалами, вела политическую программу «Четвертая власть» на РЕН ТВ, преподавала в школе «Интерньюс».
— На выборы, значит, не ходили...
— Ни разу не ходила здесь на выборы. Но я инструктировала мужа и сына насчет того, как надо голосовать. Иногда они сопротивлялись.
— Расскажите, как вы впервые покинули СССР. Это была череда унизительных процедур? Как вы это пережили?
— Муж моей сестры Валерий Чалидзе был соратником Сахарова (они вместе организовывали первый комитет по правам человека). Его пригласили в Америку в 1972 году читать лекции в Колумбийском университете. Они поехали. И на 14-й день к Валере пришли сотрудники советского посольства и зачитали ему постановление Верховного Совета СССР о том, что он лишен советского гражданства. Так они остались в США. И спустя два года прислали мне приглашение. Воссоединение семьи это называлось. По этой линии меня мама заставила подать документы на отъезд. Моих близких соратников в СССР тогда начинали арестовывать. Я в эту диссидентщину вовлеклась. Мама не хотела, чтобы меня тоже арестовали. И просто уговорила меня заполнить анкету из ОВИРа.
Заполнила я эту анкету и поехала пьянствовать в Судак. Отдыхать. Разрешение на выезд пришло, когда я была в Судаке. Там с нами отдыхали многолетние «отказники», которые 10 лет не могли уехать из страны. Узнав, что я получила согласие, они меня начали торопить. А я им: вы чего, у меня до октября выезд стоит!
— Гуляем!
— Визу на выезд ставили прямо в советский паспорт, кстати.
— И советский гражданин с такой визой в паспорте — это ужас-ужас? Это клеймо?
— Конечно. На Лубянке этот паспорт с визой отбирают и дают тебе заграничный паспорт. Мало кто его видел. Такой красненький. В общем, до самого отъезда я гуляла. Жизнь превратилась в бесконечные проводы. Помню, что я долго обдумывала, как мне вывезти с собой собаку...
— Как и сейчас...
— Да. У «Аэрофлота» тогда не было багажного отделения для животных. Поэтому мне пришлось собаку отправить прямиком в Калифорнию другим рейсом — к моему первому мужу. Советским людям нельзя было летать никакими другими рейсами, кроме Аэрофлота. Животным — можно. Клетку купили для собаки за 20 долларов — дорого. Большая клетка. Туда даже моя мама залезла!
— Зачем ваша мама полезла в собачью клетку?
— Ну потому что это моя мама. Решила испытать дома клетку, комфортно ли будет там собаке... Мама залезла в клетку, но не учла, что дверка открывается внутрь. Она прижала задницей дверку, а выйти не может. До рейса 7 часов. С большим трудом мы ее оттуда выковыряли. Засунули собаку и отправили в Калифорнию. Надо сказать, что собаку нашу не обыскивали, чем мы, к сожалению, не воспользовались. А через неделю после собаки полетела и я с сыном. Мне было 28 лет. Сыну — 8.
— Я только все равно не понимаю, зачем? У вас дедушка был министром иностранных дел при Сталине. У вас, если б вы захотели, в Союзе было бы все. И даже больше. Вы — элита. Значит вся запрещенка у ваших ног. Все женихи — у ваших ног. Деньги, дачи, машины — что хотите. С какой стати вы взбрыкнули?
— У нас была шестикомнатная квартира в Доме на набережной. Мы катались на велосипедах по коридорам. Дача была государственная. У дедушки была служебная машина с водителем — кадиллак. Но я не могу сказать, что моя семья жила, как сейчас живет элита. К тому же мой дед был не в фаворе. Дачу в 1939 году отняли, предварительно демонстративно забрав оттуда телефон-«вертушку». А когда дедушку сняли с должности, все ждали арестов. Родители ждали арестов каждую ночь. В нашем доме это происходило каждую ночь. То сверху. То снизу. То сбоку. Это называлось «свадьбами». У нас в квартире были чемоданчики для детей с «приданым» — на случай арестов родителей, чтобы мы могли в детский дом взять с собой какие-то вещи. Дедушка спал с пистолетом под подушкой. Как тебе такая элита? Веселая!
— Невероятная история с вашим дедом Максимом Литвиновым. Как мог советский человек с женой-англичанкой вообще занять министерскую должность при Сталине?
— Это было странно, но возможно. Дед женился на бабушке-англичанке Айви в начале века в Лондоне. Дед же был эмигрантом. Уже потом Советская власть пригласила его представлять молодое советское правительство в Великобритании. А в Союзе он стал заместителем Чичерина.
— 1974 год. Шереметьево. Вы после затянувшихся проводов стоите перед самолетом... Впереди — США.
— Толпа была. Слезы. Жуть. Мы с сыном зашли за стеклянную перегородку. Мы видим друзей. Друзья видят нас...
— На паспортном контроле на вас смотрели как на врага?
— Обыскали. Отняли стихотворение Наташи Горбаневской . Она мне посвятила стихотворение и сунула его мне. Больше ничего. У нас был один чемодан с какими-то простынями и матрешками. Наш первый рейс был Москва — Рим. Потому что американцы не могли дать полноценную иммиграционную визу на территории СССР. В Риме мы прошли врачей, собеседование в посольстве, получили визы. Это был мой первый выезд за границу — две недели в Риме. Оттуда мы полетели в Цюрих к Солженицыну. Мы дружили с его женой. Мой сын научил детей Солженицына ругаться матом. Потом мы полетели в Лондон. Там нас ждала моя бабушка Айви. Она очень хотела, чтобы я жила в Англии и работала на Би-би-си. Заставила меня подать документы в корпорацию. Чтобы бабушку не расстраивать, я подала. И полетела в Америку. В Мичиган. Без каких-либо перспектив. В самолете показывали ужасный фильм про американский футбол. Я смотрела его и думала: какой кошмар, страшные люди прыгают друг на друга... Неприятно было. Про Англию я знала все, а про Америку я мало что знала, неведомая планета. Но там меня нормально встретили. Сестра была. Валера Чалидзе. А потом и .
— Случайно встретили на улице Бродского?
— Нет, мы еще в Союзе с ним дружили.
— Он оказал на вас какое-то влияние?
— Не то слово. Его роль в моей судьбе огромна. Мы встретились в Штатах. Он меня сводил в ресторан — Four Seasons...
— Он платил?
— Разумеется. Мне и нечем было. И вот мы едим, он меня спрашивает, какие у меня планы. Строго так. Будто он мой папа. Хотя он лет на пять меня старше. А я ему отвечаю: «Иосиф, никаких у меня нет планов, просто понятия не имею, что я здесь делаю». Он говорит: «Так, старуха, ты в маразме». Поставил мне диагноз. Он взял и купил мне с сыном Антоном билет в Детройт, решил меня устроить и направил в Энн-Арбор — это Мичиган. Там было издательство «Ардис», в котором работали друзья Иосифа — Карл и Линда Профферы. Я им свалилась на голову, стала работать в их издательстве. К тому моменту я вообще ничего не умела. Умела преподавать английский. Умела переводить детские сказки с английского на русский. И все. За три дня Профферы меня научили вслепую печатать восемью пальцами. Села печатать, редактировала тексты. И это было моей хлебной карточкой. Это был интересный период: я познакомилась со студентами, которые там жили. Марихуана мне сразу не понравилась. Но все равно было интересно — я прижилась в Америке.
— Почему же не остались там? Почему не растворились в этой жизни?
— «Вы нам подходите».
— Да. Они меня спросили, каким образом я хотела бы добираться до Лондона. Я ответила, что только на пароходе «Елизавета II». Мне ответили, что это не предусмотрено. И тогда мы полетели с сыном в Лондон. На следующий же день я вышла на работу. Это был октябрь 1975 года.
— На Би-би-си вы сразу заняли нормальную должность или пришлось работать подставкой для микрофона первое время?
— Нет-нет, подставкой там никто не работал никогда. Я была programme assistant. Переводила, в эфире тексты читала, литературные программы делала, потом стала старшим продюсером.
— Работа на Би-би-си обеспечила вам британское подданство?
Русские привыкли к оседлости. Гораздо больше, чем люди на Западе
— Нет. Был вид на жительство. Еще у меня был паспорт беженца, который я получила в США. Кажется, в Англии после пяти лет можно было подавать на гражданство документы. А если ты замужем — после трех. Вот я и подала. А к 1987 году, когда в Союз начали пускать иностранцев, я получила британский паспорт. И сразу собралась в гости в СССР. Меня пугали, говорили, что меня арестуют, не выпустят обратно, но я по туристической путевке поехала. На 4 дня.
— Через 13 лет вы вернулись в Москву туристом на 4 дня.
— Да, и вот это возвращение на 4 дня было очень сильным переживанием. Сильнее, чем эмиграция в США. Всюду заборы, серые стены, темно. За 13 лет я отвыкла от этого. У меня глаза привыкли уже к краскам, к цвету... На автобусе из Шереметьево меня привезли в гостиницу «Россия». Я забросила в номер вещи. Отдала паспорт на ресепшн, чтобы меня зарегистрировали. И уехала к друзьям. А через 4 дня я обнаружила, что у меня нет паспорта. Я про него забыла. Очень боялась, что не смогу вылететь. Слава богу, паспорт нашелся.
— Вы с друзьями, которых 13 лет не видели, сразу нашли общий язык? Не было пропасти между вами?
— Я нашла с друзьями общий язык сразу. Но мне было жутко перед ними стыдно, что я прожила эти 13 лет полноценно, а от них шло какое-то уныние, будто каток по ним прошелся. У меня была жизнь, новые ощущения, работа. А они вот так как-то... Знаете, мы встретились в этой поездке с Зоей Крахмальниковой и Феликсом Световым, которые только-только вернулись из ссылки, и Зоя мне говорила: «Как же мне тебя жалко, ты же прожила вдали от родины столько лет». Я говорю: «Зоя! О чем вы?» Мне стало так неловко. Она меня жалела. Человек, который прожил в ссылке... в общем было грустно.
— Расскажите про ваших мужей. Их было трое?
— Четверо. Гриша Фрейдин — первый. Это был брак по молодости. Я его спасала от несчастной любви. И так получилось, что мы поженились. Гриша сейчас живет в Калифорнии. Мы дружим. От него родился Антон. И это прекрасно. Мы с Гришей быстро разлетелись. Я ему нашла невесту — американку. И они до сих пор женаты. Мой второй муж — англичанин Робин Филлимор. Он лорд.
— В прямом смысле этого слова?
— В прямом. Я же леди.
— Это, наверное, накладывало на вас некоторые обязательства.
— Жизнь с ним накладывала обязательства. Я была ему медсестрой. Кто же знал, что, оказавшись в Англии, я выйду замуж за алкоголика? Нужно было уехать из России, чтобы выйти замуж за алкоголика. Была проблема. Время от времени он считал, что он Иисус Христос. Это усугубляло ситуацию. Он был талантливым. Он любил русскую литературу. И в меня влюбился, потому что в тот момент читал «Войну и мир». Я ему представлялась Наташей. Я с ним прожила 11 интересных лет в его поместье. Тонкий, умный, красивый. Он ходил в бриджах, с бородкой. Невероятный. Умер, запив бутылкой коньяка какие-то таблетки.
— Третий муж?
— Я ушла с Би-би-си, хотя у меня был контракт без ограничения срока работы к тому моменту. Я его порвала. Мне предложили делать фильм в России «Вторая русская революция». И я поехала. Полтора года работы. Я сделала интервью с Горбачевым. С Ельциным. И где-то между Горбачевым и Ельциным встретила Сережу Шкаликова. Прекрасного актера МХТ. Из-за него я осталась в России. Тогда закрылась моя английская страница. Я вернулась сюда, сняла в Москве квартиру. Сережа был моложе меня на 17 лет. Но вот мы влюбились друг в друга. У Сережи был уже сын Сема. Сережа умер. А Сема остался со мной. Я его растила.
— Четвертый муж не был актером, лордом, профессором...
— Он был плотником. Четвертым мужем был мой Женя. Я называла его зодчим. Он был потрясающим. Интеллигентным. Он был кораблестроителем. Его отец — известный строитель военных кораблей. Женя был необычным.
— Но он был человеком не из вашего круга. Как вы его встретили?
— Он строил нам с Сережей Шкаликовым дом.
— В котором позже сам и поселился с вами.
— Да. Он мой ровесник. Умер два года назад. И его смерть теперь закрывает мою страницу российскую. Мой роман с Россией на этом закончен.
— Все закольцовывается. И вы уезжаете.
— Заспираливается.
— Возможно, это чисто русская особенность — говорить об отъездах с таким трагизмом? Может быть, нужно уже проще к этому относиться? Не эмиграция, а переселение...
В России все привыкли все делать вместе. Россия — это «Фейсбук»
— Русские привыкли к оседлости. Гораздо больше, чем люди на Западе. В 18 лет, живя на Западе, ты уезжаешь из семьи в университет. Ты приезжаешь к родителям только на каникулы, ты — вольная птица. А в России ты долго живешь с родителями, если тебе не повезло купить квартиру. И здесь ты привык к тому, что твоя страна должна о тебе заботиться, содержать, крыша над головой. Здесь какие-то подпорки. Дружба — подпорки. Семья — подпорки. Все тебя держит. Когда ты живешь в противостоянии государству, все равно ты не один в этом океане. С тобой единомышленники, вы вместе, вы друг друга подпираете. А на Западе этого нет. Когда я жила в Мичигане у Профферов, я как-то встала перед зеркалом и поняла, что я совершенно одна. Я и Антон. И все зависит только от меня. И нет никакой лодки и подпорок. Я стою на своих ногах. Я зарабатываю какие-то деньги. Мне страшно. Трудно. Но это так волнительно. Это эйфория. Приключение. В океане я одна. В России все привыкли все делать вместе. Россия — это «Фейсбук».
— По-вашему, тема эмиграции сейчас актуальна для России? Или это большое преувеличение паникеров в «Фейсбуке»?
— Это очень актуальная тема. Я слышу про это не только от друзей в «Фейсбуке». Кто не может уехать — тот хочет. Кто может — тот думает об этом всерьез.
— Как вам люди объясняют свое желание уехать?
— В воздухе что-то не то. Пока людей-то особо не сажают. Жить вроде можно. Но что-то не то. Атмосфера. Безнадега.
— Не так давно в федеральном информационном телеэфире друг президента олигарх Ковальчук сказал, что у всех нас наступило такое время, когда нужно определяться, где наш дом. Что бы вы ответили Ковальчуку, Маша?
— Мой дом — это там, где я и мои собаки. Я приезжаю в Англию, и мне кажется, что это мой дом. Я приезжаю сюда, и мне кажется, что это тоже мой дом. На юге Франции мне тоже так кажется. А в какой-то момент я хотела купить дом недалеко от Венеции. Дом — это язык, культура. Дом — это друзья. Дом — это семья.
— Хорошо, Бог с ним, с Ковальчуком. Но вот как быть с Цветаевой? «Тоска по родине! Давно разоблаченная морока! Мне совершенно все равно — где совершенно одинокой быть...» Стихотворение заканчивается словами: «Но если по дороге — куст встает, особенно — рябина...» Где ваша родина, Маша? Там, где рябина?
— Когда я 13 лет жила в США, Англии и мне казалось, что я Россию никогда не увижу, такой щемящей ностальгии у меня не было. Может, я ее в себе давила, потому что жить с ней нельзя, впадаешь в депрессию. Знаете, березок на Западе большое количество. Рябина — тоже есть. Когда я еду из Лондона в пригород к сыну и смотрю по сторонам, то думаю: боже, что я делаю в России? Как же здесь красиво! Чисто! А в России у меня есть у дома такой островок прекрасный... если смотреть только вперед (потому что сзади помойка) — тоже прекрасно. Но вот на днях я проехала километров 250 по Московской и Калужской областям. Невероятная красота перемежается со страшным бардаком. Грязные запущенные деревни, которые уже не деревни. Будто война прошла. Пустые поля. Проехав две области, увидела два пшеничных поля и одно капустное. Все остальное — сорняк и надвигающийся лес. Никто не пасется. Видела только гусыню с гусятами, которые паслись у урны возле автобусной остановки. Жрали из переполненной урны. От этого больно.
— Как вы думаете, как будет развиваться судьба российских медиа? Будет медленное и очень долгое гниение? Произойдет какой-то резкий перелом, связанный с изменением политического климата? Вы пережили уже, наверное, все стадии эволюций, революций и разложений российских СМИ, можете себе позволить прогнозировать.
— Мы уже видели перелом во время перестройки. Казалось, что ничего не может ниоткуда взяться, когда все закатано. И тут — бабах! Появились молодые журналисты. Сейчас — не знаю. В вашем поколении есть замечательные молодые журналисты. А вот что за вами, где это поле, на котором может что-то вырасти? Я не вижу его. У вас была возможность поработать в свободных медиа. А вот у тех, кто после вас, — поля нет. Оно заросло сорняком, как Калужская область. Эти люди путают журналистику с пиаром и рекламой. Они занимаются пиаром мэров, губернаторов и чиновников.
— Вы помимо прочего занимались в России преподаванием. Учили будущих журналистов в «Интерньюс». Получается, что все это было зря?
— Студенты меня уже тогда спрашивали: «А что нам делать? Как быть? Как работать?» Я тогда им говорила, что нужно искать другую профессию и ждать. Единственное, что у вас есть, — это имя. Нельзя несколько лет пиарить губернатора, называться журналистом и думать, что потом, когда времена изменятся, из вас действительно выйдет хороший журналист. Некоторые мои ученики ушли в другие профессии. Некоторые как-то крутятся. Но что-то в них я заложила. Может, мои принципы пригодятся людям и не в журналистике, а в чем-то другом.
— Вы были одной из тех, кто придумывал Хартию российских журналистов. Было это в 1994 году. В этом документе очень понятным русским языком регламентировалось поведение профессионального журналиста. Мы сегодня видим, что к этой журналистской хартии — даже если молодые журналисты о ней и слышали, в чем я сомневаюсь, — относятся как к туалетной бумажке. Получается, что и тут вы проиграли?
— Да даже большинство журналистов, которые подписали эту хартию, уже не в профессии. Но мы и не работали на победу. Мы просто делали то, что должны были делать. Старались. И какое-то время получалось. Просто старались работать честно.
— Что вы сделали не так?
— Не хочется быть как Путин и говорить, что ошибок я не совершала...
— Поясню. У некоторых людей, которые активно принимали решения в 1990-е годы, которые были тогда на коне, сейчас есть что-то вроде чувства вины: мол, мы все так были увлечены переменами, что толком не сумели ими правильно воспользоваться. Институтов не построили, не закрепили какие-то базовые принципы демократические, без которых страна не может быть цивилизованной. Вам это чувство вины знакомо?
— Нет. Мне очень грустно, что я сейчас не могу что-то сделать. Но на том этапе каждый делал то, что мог. Если бы я была Ельциным, я бы повесилась. Потому что упустить такой шанс... Горбачев не был ни к чему готов. Он ничего не понимал. А вот Ельцин мог бы при своей популярности развернуть страну, он мог сделать со страной все! И что-то недотянул. А мы — делали то, что могли в полную силу. Россия попала в плохие руки... но не мы же ее передали в них. И предали.
— Знаете, кого вы мне напоминаете?
— Кого же?
— Так и не выросшую Пеппи Длинныйчулок. Помните, как она говорила: «Я пилюлю проглочу, стать я старым не хочу». У вас, как у Пеппи, тоже есть своя лошадь... вы легкомысленная, много авантюрных поступков совершали в своей жизни — практически международная авантюристка. Марией Ильиничной вы так и не стали. Вы — Маша. Может, пора уже повзрослеть?
— Маша. Может, пора уже повзрослеть?
— И не стану я Марией Ильиничной никогда, потому что уезжаю туда, где по отчеству не называют. Меня Марией Ильиничной в жизни только в КГБ называли. Когда я приехала работать на Би-би-си, там уже была одна Мария Воробьева. И, чтобы нас не путать, решили называть меня Машей.
— Где бы вы хотели быть похороненной через сто лет, когда умрете? В России? В США? В Англии?
— Мне абсолютно все равно. Я хотела бы, чтобы мой прах развеяли. Я настолько не люблю могилы. Гниющие кости... бррр... Вот могилу я не хочу. Это ужасно мрачно.
— Хотите стать ветром...
— Я и есть.
— Маша, перед отъездом оставите какое-нибудь завещание? Тем, кто остается здесь.
— Я восхищаюсь молодыми людьми, которые остаются и что-то хорошее на своем маленьком участке здесь делают. Например, занимаются благотворительностью. Грустно, если и до них дойдет волна. Я преклоняюсь перед этими людьми и думаю: какой сизифов труд! Но он облегчает жизни другим! Эти люди и есть — Россия. Пока такие люди есть — Россия не погибнет. Как говорил Ельцин, берегите Россию!
Маша Слоним: «Мы с ним не договорили, и это меня до сих пор мучает»
Беседу ведет Михаил Не‑Коган
Маша (Мария Ильинична) Слоним‑Филлимор — журналист, продюсер, блогер. Родилась в семье скульптора Ильи Львовича Слонима и Татьяны Литвиновой — дочери советского наркома иностранных дел Максима Литвинова и англичанки Айви Лоу. Ее двоюродный брат Павел Литвинов и муж сестры Веры Валерий Чалидзе были советскими диссидентами. Первым мужем был известный впоследствии филолог Григорий Фрейдин. В 1974 году она уехала из СССР. Работала в издательстве «Ардис», затем — на русской службе Би‑би‑си. В 1991 году вернулась на родину. Организовала закрытый клуб политических журналистов — «Клуб любителей съезда», где ведущие политики России встречались с журналистами. Преподавала в школе журналистики некоммерческой организации «Интерньюс». В 2015 году решила вернуться в Англию.
За несколько дней до отъезда Маши Слоним мы поговорили с ней о творчестве ее отца И. Л. Слонима (1906–1973).
 Михаил Не‑Коган
→ Какие ваши самые ранние воспоминания о папе?
Михаил Не‑Коган
→ Какие ваши самые ранние воспоминания о папе?
Маша Слоним ← У нас в семье был матриархат, и нами занималась в основном бабушка. Бабушка отняла нас от всех мужчин и даже от мамы и воспитывала за городом. Хотела спасти — я помню, такая формулировка была — от советской пошлости. Семья жила тогда в Доме на набережной, и ей не хотелось, чтобы мы там бытовали. И в школу мы там не пошли, хотя рядом была школа, куда ходили все дети, жившие в этом доме. Поэтому папа приезжал за город на свидания, но не очень часто. Честно говоря, я плохо помню, как проходило наше общение. По‑моему, он нас побаивался — а мы его. Он не совсем понимал, как с нами быть, с девочками. Очень любил, но не очень понимал нас — может быть, потому, что бабушка нас от всех закрыла. Помню один из первых случаев нашего взаимного непонимания. Он как‑то приехал в деревню и вез нас с Верой на санках (мне, наверное, было четыре, ей — два), Вера замерзла, и я, вместо того чтобы сказать: «Какая ты мерзлячка!» — сказала: «Какая ты мерзавка!» Папа решил, что я ее ругаю. Схватил меня, начал трясти со словами: «Никогда не называй свою сестру мерзавкой!» Я же никак не могла понять, в чем дело, и сильно удивилась, что он разозлился на меня. Потом в этом недоразумении как‑то постепенно разобрались.
Наше общение началось, когда мы были уже в более или менее сознательном возрасте. Мы переехали в квартиру его покойных родителей из Дома на набережной, когда умер мой дед и нас оттуда выселили. И вот тут мы стали жить все вместе. У него была еще мастерская в квартире, и я помню этот запах дерева, мраморную пыль… Потом мастерская стала нашей детской, когда он получил мастерскую на Масловке, и уже тогда мы к нему ездили, позировали даже. Началось общение. Он много читал стихов — например, знал наизусть всего «Евгения Онегина». Нам было немножко стыдно, мы не знали романа, и он не то чтобы попрекал нас, но казался разочарованным.
МН → Так надо было учить с детьми…
МС ← Папа был страшный трудоголик. Уходил с утра в мастерскую и работал целыми днями. В мастерской была маленькая каморочка с диванчиком, где папа отдыхал. А приходил он вечером. Еще мы с ним здорово общались, когда ходили на бега: он был страстный тотошник. Любил бега; бывало, два раза в неделю ходил на Беговую. Долго ходил один, а потом, когда уже инфаркт у него случился — первый, а может, уже и не первый, — его надо было сопровождать, и я сопровождала. Мне нравилось.
Почему‑то с детства он пытался заставить нас читать «Мертвые души». А мне уже от одного названия жутко становилось, как с «Холодным домом» Диккенса, и преодолеть себя я не могла. Он читал кусочки из «Мертвых душ», и было страшно смешно, но прочесть книгу целиком в двенадцать лет было как‑то слабо. И он не то чтобы злился, но огорчался, что мы никак не можем подключиться.
МН → Ему хотелось, чтобы вы побыстрее выросли.
МС ← Конечно, чтобы были ему собеседниками… Уже после его смерти я вдруг поняла, что мы сильно не договорили, и поняла, что готова была общаться с ним по‑взрослому. А этого не произошло.
МН → А когда вы начали понимать его своеобразие, то, что ваш отец не просто скульптор, но какой‑то особенный?
МС ← Я это всегда понимала, всегда чувствовала, но к этому чувству примешивалось чувство обиды. Потому что я тоже хотела быть скульптором. Я как‑то лепила, и он сказал: «Надо тебя отдать в обучение…» Речь шла о ком‑то из молодых его коллег. Я трепетала — однако больше разговора об этом он не заводил.
МН → Почему?
МС ← Вот. А я стеснялась спросить и думала: «Значит, он считает, что у меня все‑таки недостаточно таланта и не нужно мне этим заниматься». Скорее всего, он просто не хотел, чтобы я этим занималась: жизнь нелегкая у скульптора и вообще у художника. Вечно сидели без денег, какие‑то заказы надо было искать. Он портреты делал: это единственное, за что платили. Гонорары получал раз или два в год, поэтому долги… И, когда папа получал гонорар, я, помню, развозила эти деньги по всей Москве. Мама тоже на договорах работала. И думаю, он не хотел мне такой жизни, а может, действительно решил, что я недостаточно талантлива. В общем, я так и не узнала…
МН → А вы с какого возраста начали лепить?
МС ← Как все, с детства. Рисовала, лепила…
МН → В подражание отцу или сами по себе?
МС ← Нет, не подражала. Я животных лепила, а он их редко лепил. Ну, наверное, то, что мы росли рядом с его работами, безусловно, повлияло. Я и маслом писала: мама меня немножко научила. Она была художницей, живописцем. Но главный художник в семье был отец, поэтому мама зарабатывала переводами, а живопись была для нее как хобби. Она уезжала в Грузию, там писала картины, но деньги шли все‑таки от переводов.
МН → Ваш отец лепил многих знаменитостей. Вы помните их? Бывали ли они у вас дома или только на Масловке?
МС ← Бывали везде. Ахматова позировала папе на Масловке. Я помню, то ли привозила ее, то ли просто зашла, и она так по‑царски сидела на стуле на небольшом постаменте, куда отец сажал всех. Но Ахматова бывала и у нас в гостях, потому что и мама, и папа очень любили поэзию. Она даже нам читала. Я помню вечер, когда она приехала и читала «Полночные стихи», только‑только ею написанные. А я кормила в это время нашего собачку Трику сахаром, чтобы Трика не залаял. Папа многих лепил…


 МН
→ Ну вот у вас дома кто бывал?
МН
→ Ну вот у вас дома кто бывал?
МС ← Я хорошо помню только Ахматову и Бродского. Ростропович жил в том же доме композиторов на 3‑й Миусской, где жили и мы. Папа лепил и Шостаковича, но я его не встречала, потому что это происходило в эвакуации. Папа воевал, потом его комиссовали, потому что он был совсем слепой: минус шесть или минус семь. И он раздавил очки на фронте. Вообще, было чудом, что его призвали и он не погиб. Он же записался, как многие, в ополчение, потому что с его зрением не призывали, и уже должен был идти в ополчение, как вдруг вышло какое‑то послабление и с его зрением стали призывать. Он пошел на фронт и не погиб. А почти все его друзья — художники, скульпторы — пошли в ополчение и погибли. И вот он приехал в эвакуацию в Куйбышев, а там Шостакович.
Один портрет Шостаковича я подарила Музею Глинки, но где‑то еще один отлив есть. Папа вообще любил музыкантов, мы часто ходили на концерты. Наташу Гутман обожал, лепил ее, и она у нас бывала.
А Ростропович… я не знаю, где он его лепил. Может, папа к нему ходил, потому что вряд ли Ростропович тащился в мастерскую с виолончелью и сидел там с ней. Этого я просто не помню.
МН → Об Илье Львовиче писали скудно и однообразно. Были выставки, был каталог 1973 года — и всё…
МС ← Он недооценен, мне так кажется. Он работал в выставкоме, и, может быть, отчасти поэтому ему было неудобно свои выставки продвигать. Ведь выставка 1973 года была посмертная. А еще он не был членом партии, не был таким уж прямо лояльным. Его не выпускали за границу; можете себе представить, каково это для художника — ни разу не видеть работ, например, в Лувре или в Уффици? Когда он в 1920‑х годах учился во ВХУТЕМАСе, он мечтал уехать за границу. И тогда еще иногда выпускали. Там, за границей, было большое искусство, и он чувствовал, что жить и работать ему надо там, но… решил сначала окончить ВХУТЕМАС. А к тому времени, как окончил, — все захлопнулось. И только однажды, в 1956 или 1957 году, освободилось место в какой‑то делегации художников, и его запихнули туда, хотя он не был членом партии. И это оказалось счастьем! Он был в Генуе, во Флоренции, и мы потом над ним слегка подсмеивались, потому что он начинал все свои рассказы словами: «Когда я в последний раз был в Италии…» И это, конечно, было для него грандиозным событием. Его не выпускали, но… в партию он вступить не мог.
МН → Из биографической справки следует, что Илья Львович работал на фабрике в Конаково.
МС ← Да, он много работал с фарфором.
МН → Я вообще не знаю, кто из именитых художников работал в Конаково после революции.
МС ← В Конаково отливали его фигурки. Он ведь сделал очень хороший портрет Образцова, такую небольшую фигурку. Честно говоря, я не знаю, в каком она музее… И потом по ней сделали памятник Образцову. Он держит на руке куклу. У него были хорошие фарфоровые работы, и поездки в Конаково были для папы таким праздником.
МН → Пишут, что Илья Львович лепил Шкловского. У вас он не бывал?
МС ← Родители дружили со Шкловским, но они к нему ходили в гости, насколько я помню. Хотя, может быть, и бывал, но, когда велись умные разговоры, нас в детстве куда‑то отправляли. Я знаю, что у мамы была с ним переписка и вообще они были дружны. К Эренбургам мы тоже ходили в гости, меня брали несколько раз.
МН → Вы упомянули, что папу за границу не выпускали и он не был стопроцентно лоялен. Между вами случались какие‑то разговоры на эту тему? Сколько вам было, когда он стал с вами об этом говорить?
МС ← Во‑первых, родители шептались, и, конечно, мы чувствовали их отношение ко всему, когда еще были маленькими. Мы жили за счет заказов, в основном портретов, и знаем, портретов кого. Мама рассказывала, что, когда они уже жили вместе, она видела, как не получались у папы портреты вождей. Так что ни Ленина, ни Сталина в его исполнении нет. А потом произошла страшная история, кстати говоря сыгравшая свою роль в деле выставок. Я еще в школу ходила, это был примерно год 1962‑й. Мы жили на Миуссах. И вдруг приходят к нам в квартиру агитаторы с урной и говорят: «Проголосуем, товарищи!» И папа вдруг зашелся: «А чего это? За кого голосовать? Почему вы к нам пришли?» Это были какие‑то дополнительные выборы: «Вот, за Иванова Ивана Ивановича». Папа говорит: «Я ничего о нем не знаю, первый раз слышу об Иванове Иване Ивановиче. Я отказываюсь голосовать». Скандал страшный в коридоре, а эти — с урнами — с вытянутыми лицами. Папа не дает никому голосовать, но никто и не собирался: из голосующих были лишь мама и папа. Обычно они вообще брали открепительный и не ходили на выборы. Такая традиция у них была. А тут настигли дома. Никто не был готов к этим дополнительным выборам. В общем, нашла коса на камень. Папа не отличался, естественно, особой гражданской активностью: работал себе и работал, и все знали прекрасно, как он ко всему этому относится. А тут вдруг стало ему просто противно. Ну, написали на него в Союз художников. В ЦК вызывали, хоть он и не был членом партии. И его шансы участвовать в выставках сильно уменьшились.
МН → Тем более что 1962 год, Манеж… А тут Слоним не хочет голосовать за Иванова…
МС ← Его оскорбило, что они считают, что могут просто прийти и поставить перед ним урну. И случившееся сильно испортило ему жизнь. А жизнь как портится? Заказы и выставки. Главным, конечно, были для него выставки, потому что он много работал не по заказам — для себя. Ему предлагали каяться в ЦК и в МОСХе, но он отказался. Тут он был тверд. А гражданская его позиция проявлялась в том, что у нас рядом была Высшая партийная школа (там теперь РГГУ), и он водил нашу таксу Трику туда по ночам, и была большая удача, если Трика покакает там, у ВПШ, и чуть меньшая удача — если пописает. Он прямо туда его вел. Возвращался домой и объявлял довольным голосом: «Успех!» Это было таким тихим протестом.
МН → Но когда этот протест приобрел общественный характер, как он к этому относился?
МС ← Боялся за нас. За маму боялся. Мама рвалась в бой, была граждански активным человеком. Он боялся влияния Павла на нас, девочек, — не оттого, что осуждал, а просто боялся, что с нами что‑то случится.
МН → Никаких коллективных писем не подписывал?
МС ← Нет, он был принципиальным человеком, но как‑то тихо принципиальным. То, что он не был членом партии, ему в чем‑то мешало, но и спасало от чего‑то другого. Он очень чисто прожил. Оглядываясь назад, я понимаю, что это было очень непросто — оставаться порядочным человеком.
МН → В начале 1970‑х началась активная еврейская эмиграция. Как Илья Львович относился к этой теме?
МС ← Еврейская тема в семье не обсуждалась, но папа, как я знаю, никогда не был сионистом; наоборот, он, как и мой дедушка Максим Литвинов, считал, что евреи должны ассимилироваться. Моя прабабушка по папиной линии перетащила всю их большую семью из Сибири в Ташкент. Папин отец, Лев Ильич Слоним, замечательный, судя по всему, человек и специалист, инженер‑нефтяник, автор многих изобретений в своей области, был представителем первого поколения, выросшего и получившего образование (Институт им. Губкина) вне черты оседлости. Если судить по его удачной карьере, он неплохо ассимилировался, хотя в папином архиве я нашла свидетельство о браке Льва Ильича и Анны Григорьевны Тафт (моей бабушки), выданное раввином Берлина, где и был заключен брак.
МН → Вы уехали в 1974‑м, папы не стало годом раньше. Во время вашего отсутствия что здесь происходило с его наследием, кто этим занимался?
МС ← В основном мама. Большие работы — в музеях, многие в запасниках, наверное. А все, что в музеи не попало, художник Дмитрий Жилинский предложил вывезти в Химки. Там у него был дом и рядом сарай, и он отдал его под отцовские работы. У отца были молодые друзья, которые его любили и ценили: Дмитрий Шаховской, Андрей Красулин. Они были просто как ученики. Помогли маме перевезти папины работы. И еще была такая Нелли Климова из Росизо, мы с ней после решали, что можно распределить по региональным музеям, уже когда я вернулась. Очень много папиных работ по всей России. Где‑то они выставлены, где‑то в запасниках… А потом случилась совершенно ужасная история. Оставались в основном гипсы и маленькие работы. Мы перезванивались уже с сыном Жилинского Василием. Я ему говорила: «Вась, если мешают работы, я их вывезу» — «Нет‑нет, пока нормально». Потом он вдруг звонит: «Я собираюсь продавать дом, забирай работы». Я была где‑то на съемках, говорю: «Вернусь со съемок и все это организую». И вот мы приехали на пикапе и думали, что все увезем. Но оказалось, что, конечно, там и грузчики были нужны, и надо было все упаковывать, и мы на пикапе увезли только маленькие работы. Договорились с Василием, что я закажу «газель», грузчиков, все упакуем и увезем. Он назвал день, когда уезжает, у меня опять съемки, то‑се… И вот я ему звоню: «Вась, я договорилась с грузчиками, мы подъедем завтра». Он мне: «А я уже уезжаю, еду в аэропорт». «Ну ладно, я там как‑то смогу ворота открыть?» — думая, что все осталось в сарае. «Нет‑нет, я продал всё», — сказал Вася. А в том доме до Жилинских жил Олег Прокофьев с женой Камиллой, англичанкой, и от Олега оставался какой‑то архив. Вася продавал этот архив, а коллекционеру понравились папины работы, и Вася их продал за три тысячи долларов. «Ну, если тебе обидно, — сказал он мне, — дай номер карты, я тебе брошу половину». Назвать имя коллекционера он отказался, и я даже не знаю, кому он продал. Это было в позапрошлом году, летом. Совершенно чудовищная история. И я надеюсь, что купил коллекционер, который понимает, какие работы оказались у него в руках.
Но основные работы все‑таки в музеях, и это радует. Помню, была смешная история с портретом Бродского. На выставке 1973 года нельзя было написать, что это — портрет Бродского. Но еще до того папа назвал эту работу «Портрет поэта», так она везде и идет. По‑моему, эта работа находится в Русском музее, но знают ли они, что это — Бродский?..
МН → А поэзию Бродского он понимал? Потому что тогда это было еще недостаточно общедоступным.
МС ← Папа был тонким человеком. Понимал, любил, ценил, помнил наизусть, и вообще они как‑то быстро подружились. У них были отдельные от мамы отношения — она тоже дружила с Иосифом. Но у них были какие‑то свои, потому что, во‑первых, Иосиф позировал ему, а в мастерской происходило что‑то такое… там устанавливались совсем другие отношения. Очевидно, между художником и моделью устанавливается связь иного порядка.
МН → В советское время был такой штамп: «биение пульса художественной жизни». Папа как‑то был в это вовлечен?
МС ← Нет, он был камерный человек. Вокруг него вращался определенный круг людей.
МН → А на вернисажи он ходил?
МС ← К друзьям ходил, естественно. Но он же был в выставкоме, так что ему приходилось видеть многое и многое пробивать. Это другая жизнь: не тусовка, а серьезная профессиональная среда. Жизнь бурлила в его мастерской, там всегда была живая атмосфера. В основном, конечно, туда приходили его друзья художники и скульпторы. С Андреем Гончаровым они очень дружили, я помню его хорошо, потому что у них эрдели были и он недалеко от нас жил. Виктор Вакидин — как раз от него мы получили собачку Трику: у него умерла жена, и он нам ее отдал.
МН → Вам папа разрешал смотреть, как он работает?
МС ← Конечно, я видела, как он работает, и довольно часто. Во‑первых, я видела, как папа работает, когда он лепил меня. Мне тогда было 16 лет, и мне очень нравилось смотреть, как он работает. Папа был небольшого роста, но с сильным торсом. Плечи, грудная клетка, руки… Я любила, когда он с деревом работал. А с пылью!.. Вот он работал с мрамором, камнем, и стояла такая пыль… У нас был ирландский терьер Чук, у него все время глаза слезились.


МН → Когда мастерская была дома, граница между квартирой и мастерской фактически была размыта и эта пыль, естественно, была и в коридоре…
МС ← Конечно. Хотя дверь закрывали и мы туда не заходили, когда он работал. Зато собака там была. Ей не разрешалось на диване лежать, и, когда папа входил в комнату, Чук опускал передние лапы на пол: мол, видишь, я не на диване. Папа очень любил собак. Кошек меньше, по‑моему.
МН → По нынешним меркам Илья Львович рановато ушел из жизни…
МС ← В 67 лет. Сердечником был. Четыре инфаркта. Каждый раз после инфаркта врач говорил: «Не работать! Не работать!» Но он не мог не работать, не мог жить инвалидом.
МН → Как он относился к вашему профессиональному выбору?
МС ← А у меня не было тогда никакого профессионального выбора.
МН → Вы пошли на филфак.
МС ← Только бы не в Строгановку! Он говорил: «Не будешь учиться — будешь маникюршей». Вот к молодым людям вокруг меня он не так хорошо относился, довольно критически. Но у меня рано началась своя личная жизнь, рано родился сын. Он меня любил, сочувствовал, волновался, но по‑взрослому мы с ним почти не общались. Я ему не говорила, когда стали вокруг арестовывать с «Хроникой текущих событий», что я покупала в «Березке» продукты и отправляла в тюрьму, в лагерь, передачи возила. Мой первый муж уехал в Америку и через «Инюрколлегию» алименты оформил. Он мне присылал двести долларов, я их получала чеками, и эти чеки отоваривала в «Березке»: покупала для передач сыр, копченую колбасу… Папа иногда приходил ко мне в гости, открывал холодильник и восхищался тем, как у меня все забито. Но я ему, конечно, не говорила, что это — для следующей передачи.
МН → То есть он об этом ничего не знал?
МС ← Не знал! Он радовался за меня, за то, что я такая хозяйственная. Он многого не знал, хотя, может, и подозревал. Сердце было плохое, и я ему не рассказывала. Но вообще мы с ним не договорили, и это меня до сих пор мучает…
Журналист Маша Слоним уезжает в Великобританию. Это вторая эмиграция из России: в 1974 году без надежды вернуться Слоним бежала из СССР и прожила в США и Великобритании до начала 90-х. За границей она работала в издательстве "Ардис" и в Русской службе BBC. Вернувшись в Москву, Слоним продолжила заниматься журналистикой: сотрудничала с западными телеканалами, вела политическую программу "Четвертая власть" на РЕН ТВ, преподавала в школе "Интерньюс".
Корреспондент Радио Свобода встретился с Машей накануне ее отъезда и за чашкой прощального английского чая узнал о причинах новой эмиграции Слоним.
– Маша, вы действительно уезжаете из России? Навсегда?
– Да. Я решила, что еще одну русскую зиму я в жизни не хочу.
– Почему?
– Я столько зим здесь пережила, что они мне надоели. Все белое. Не могу больше. Но это, конечно, не самое главное.
– Вы уезжаете от чего-то? Вы уезжаете к чему-то? Третий вариант?
– И то, и то. Первый раз я уезжала от чего-то. От "совка".
– Вы как-то в интервью говорили, что без особой радости.
– Без особой радости, но с любопытством. Тогда было понятно, что я своего сына не хочу видеть здесь. Я не хотела, чтобы он здесь рос.
– И казалось, что "совок" не кончится.
– Казалось, что никогда не кончится. Это точно. Когда мы прощались с друзьями, я кривила душой и говорила, что мы еще увидимся. Будучи абсолютно уверенной, что этого никогда не случится. Себе врала и друзьям врала, что что-то изменится. Тогда я думала, что два пути у моего сына есть – это либо конформизм, либо диссидентство. Я как мать ни того, ни другого сыну не желала. Он бы стал диссидентом, конечно.
– Ну так а сейчас что? "Совка" давно вроде бы нет. Бытовые причины? Политические? Что-то экзистенциальное?
Любой пузырь – проницаемый. Миазмы современной жизни в него проникают
– Сейчас мне это кажется единственным правильным шагом. Я никогда не принимаю серьезных решений. Могу принять решение сходить в бассейн. Или в магазин. Почитать книжку. Но вот решений, меняющих мою жизнь, никогда не принимала. Они "принимали" меня. Просто сейчас мне кажется, что это единственный правильный ход. Я создала себе здесь прекрасную жизнь. Я вокруг себя надула пузырь, надела колпак, в котором живу. Окружила себя любимыми людьми. Живу с животными. Внутренняя эмиграция.
– К чему тогда менять ее на эмиграцию внешнюю?
– Потому что любой пузырь – проницаемый. Миазмы современной жизни в него проникают. Невозможно спрятаться. Я читаю "Фейсбук", интернет, слушаю радио и вижу людей. Что-то вдруг случилось со мной. Я потеряла надежду, что в России что-то изменится. Не в оставшееся мне жизненное время, а вообще. Можно жить в стране и думать: о’кей, на моем веку здесь ничего хорошего не будет, но вот дети и внуки увидят небо в алмазах. Не увидят. Нет надежды. Это совокупность причин. Все вместе. Все, что происходило в последние 10 лет. Даже в 15. Все ужаснее и ужаснее становится. Возможно, все это лопнет, грохнется и изменится. Но я не хочу ждать. Сейчас мое место – там.
– В Англии?
– Да. Я здесь ничего не могу сделать, чтобы что-то изменить. Сидеть, спрятавшись в своем коконе, наблюдать за этим всем… и быть, и не быть – это трудно. К тому же я выполнила свою миссию здесь – я поставила на ноги своего приемного сына Сему. Я увидела, что он сможет без меня. Он стал взрослым.
– О чем и о ком вы будете скучать больше всего? Чего вам будет не хватать?
– Помимо друзей, с которыми я все равно буду видеться, мне будет не хватать моих полей, дома, в котором я прожила больше 20 лет. Собак я беру с собой. Большую часть.

– Спецбортом, что ли, летите?
– У меня есть спецборт знакомый. Но у него аллергия на животных. Не смогу. А так было бы гениально.
– Ноев ковчег.

– Была еще идея заказать прицеп – чудесно и весело проехать по Европе, потом на пароме доплыть до Англии. Вместе с Люсей Улицкой мы так хотели. Но, скорее всего, не получится. Буду более практичной. Засуну собак в багаж. Кошек в салон возьму.
– А сколько у вас животных? Вы считали?
– Не считала. Короче, четырех собак я везу. И двух котов. Остальные 11 котов остаются. Остается одна собака. Конь, конечно, тоже останется. Он старый. Его трудно перевозить. И всякие козы, индюки, павлины остаются. Сын Семен их берет на себя здесь.

– Маша, вы же абсолютно русский человек, несмотря на все ваши передвижения по миру. Вы и из Америки уехали, потому что до последнего сопротивлялись американской мечте – не хотели ассимилироваться.
– Не понятно: когда я живу в России, мне кажется, что я не русский человек. Я немножко со стороны наблюдаю за всем тут. Привычка бибисишная. И до первой эмиграции я здесь себя чувствовала не в своей стране. Но, живя в Англии и Америке, я ощущала себя не англичанкой и не американкой, а русской.
– Значит, здесь вы – не русская, а там – русская?
– Вы уезжаете, чтобы почувствовать себя русской.
– Да. Это правда. Я здесь читаю английские книги, а там – русские. Я дитя двух культур. И это здорово.
– А вы себе представляете ваш быт в Англии? Как будет складываться ваша жизнь там? Чем вы займетесь?
– Да, у меня есть там дом, недалеко от старшего сына Антона. Буду на велосипеде с собаками к нему ездить – 7 миль по полям и лугам. Это юго-запад Англии. У меня есть мысль, что надо написать книгу. О семье. Потому что после меня не остается никого, кто мог бы это сделать. Так что на мне это висит. Вот появился хороший повод сесть и написать. Тем более там находится мамин и бабушкин архив. Закрою "Фейсбук" и займусь делом.
– У вас есть паспорт подданной Великобритании?
– Только он у меня и есть. У меня российского нет. Я уезжала из СССР по советскому паспорту в 1974 году. А когда я вернулась в Россию – новый паспорт не сделала. Да и зачем? Я жила здесь по визам. По бибисишным журналистским визам. Потом жила здесь как жена – приходилось, правда, каждые три месяца выезжать из России.
– Чиновники вам не предлагали сделать здесь паспорт?
– Ну я же не Жерар Депардье. И даже не императрица.
– На выборы, значит, не ходили…
– Ни разу не ходила здесь на выборы. Но я инструктировала мужа и сына насчет того, как надо голосовать. Иногда они сопротивлялись.
– Расскажите, как вы впервые покинули СССР. Это была череда унизительных процедур? Как вы это пережили?
У "Аэрофлота" тогда не было багажного отделения для животных. Поэтому мне пришлось собаку отправить прямиком в Калифорнию другим рейсом
– Муж моей сестры Валерий Чалидзе был соратником Сахарова (они вместе организовывали первый комитет по правам человека). Его пригласили в Америку в 1972 году читать лекции в Колумбийском университете. Они поехали. И на 14-й день к Валере пришли сотрудники советского посольства и зачитали ему постановление Верховного Совета СССР о том, что он лишен советского гражданства. Так они остались в США. И спустя два года прислали мне приглашение. Воссоединение семьи это называлось. По этой линии меня мама заставила подать документы на отъезд. Моих близких соратников в СССР тогда начинали арестовывать. Я в эту диссидентщину вовлеклась. Мама не хотела, чтобы меня тоже арестовали. И просто уговорила меня заполнить анкету из ОВИРа. Заполнила я эту анкету и поехала пьянствовать в Судак. Отдыхать. Разрешение на выезд пришло, когда я была в Судаке. Там с нами отдыхали многолетние "отказники", которые 10 лет не могли уехать из страны. Узнав, что я получила согласие, они меня начали торопить. А я им: вы чего, у меня до октября выезд стоит!
– Гуляем!
– Визу на выезд ставили прямо в советский паспорт, кстати.
– И советский гражданин с такой визой в паспорте – это ужас-ужас? Это клеймо?
– Конечно. На Лубянке этот паспорт с визой отбирают и дают тебе заграничный паспорт. Мало кто его видел. Такой красненький. В общем, до самого отъезда я гуляла. Жизнь превратилась в бесконечные проводы. Помню, что я долго обдумывала, как мне вывезти с собой собаку…
– Как и сейчас…
– Да. У "Аэрофлота" тогда не было багажного отделения для животных. Поэтому мне пришлось собаку отправить прямиком в Калифорнию другим рейсом – к моему первому мужу. Советским людям нельзя было летать никакими другими рейсами, кроме Аэрофлота. Животным – можно. Клетку купили для собаки за 20 долларов – дорого. Большая клетка. Туда даже моя мама залезла!
– Зачем ваша мама полезла в собачью клетку?
– Ну потому что это моя мама. Решила испытать дома клетку, комфортно ли будет там собаке… Мама залезла в клетку, но не учла, что дверка открывается внутрь. Она прижала задницей дверку, а выйти не может. До рейса 7 часов. С большим трудом мы ее оттуда выковыряли. Засунули собаку и отправили в Калифорнию. Надо сказать, что собаку нашу не обыскивали, чем мы, к сожалению, не воспользовались. А через неделю после собаки полетела и я с сыном. Мне было 28 лет. Сыну – 8.

– Я только все равно не понимаю, зачем? У вас дедушка был министром иностранных дел при Сталине. У вас, если б вы захотели, в Союзе было бы все. И даже больше. Вы – элита. Значит вся запрещенка у ваших ног. Все женихи – у ваших ног. Деньги, дачи, машины – что хотите. С какой стати вы взбрыкнули?
– У нас была шестикомнатная квартира в Доме на набережной. Мы катались на велосипедах по коридорам. Дача была государственная. У дедушки была служебная машина с водителем – кадиллак. Но я не могу сказать, что моя семья жила, как сейчас живет элита. К тому же мой дед был не в фаворе. Дачу в 1939 году отняли, предварительно демонстративно забрав оттуда телефон-"вертушку". А когда дедушку сняли с должности, все ждали арестов. Родители ждали арестов каждую ночь. В нашем доме это происходило каждую ночь. То сверху. То снизу. То сбоку. Это называлось "свадьбами". У нас в квартире были чемоданчики для детей с "приданым" – на случай арестов родителей, чтобы мы могли в детский дом взять с собой какие-то вещи. Дедушка спал с пистолетом под подушкой. Как тебе такая элита? Веселая!
– Невероятная история с вашим дедом Максимом Литвиновым. Как мог советский человек с женой-англичанкой вообще занять министерскую должность при Сталине?
– Это было странно, но возможно. Дед женился на бабушке-англичанке Айви в начале века в Лондоне. Дед же был эмигрантом. Уже потом Советская власть пригласила его представлять молодое советское правительство в Великобритании. А в Союзе он стал заместителем Чичерина.

– 1974 год. Шереметьево. Вы после затянувшихся проводов стоите перед самолетом… Впереди – США.
– Толпа была. Слезы. Жуть. Мы с сыном зашли за стеклянную перегородку. Мы видим друзей. Друзья видят нас…
– На паспортном контроле на вас смотрели как на врага?
– Обыскали. Отняли стихотворение Наташи Горбаневской . Она мне посвятила стихотворение и сунула его мне. Больше ничего. У нас был один чемодан с какими-то простынями и матрешками. Наш первый рейс был Москва – Рим. Потому что американцы не могли дать полноценную иммиграционную визу на территории СССР. В Риме мы прошли врачей, собеседование в посольстве, получили визы. Это был мой первый выезд за границу – две недели в Риме. Оттуда мы полетели в Цюрих к Солженицыну. Мы дружили с его женой. Мой сын научил детей Солженицына ругаться матом. Потом мы полетели в Лондон. Там нас ждала моя бабушка Айви. Она очень хотела, чтобы я жила в Англии и работала на Би-би-си. Заставила меня подать документы в корпорацию. Чтобы бабушку не расстраивать, я подала. И полетела в Америку. В Мичиган. Без каких-либо перспектив. В самолете показывали ужасный фильм про американский футбол. Я смотрела его и думала: какой кошмар, страшные люди прыгают друг на друга… Неприятно было. Про Англию я знала все, а про Америку я мало что знала, неведомая планета. Но там меня нормально встретили. Сестра была. Валера Чалидзе. А потом и Иосиф Бродский .
– Случайно встретили на улице Бродского?
– Нет, мы еще в Союзе с ним дружили.

– Он оказал на вас какое-то влияние?
– Не то слово. Его роль в моей судьбе огромна. Мы встретились в Штатах. Он меня сводил в ресторан – Four Seasons...
– Он платил?
– Разумеется. Мне и нечем было. И вот мы едим, он меня спрашивает, какие у меня планы. Строго так. Будто он мой папа. Хотя он лет на пять меня старше. А я ему отвечаю: "Иосиф, никаких у меня нет планов, просто понятия не имею, что я здесь делаю". Он говорит: "Так, старуха, ты в маразме". Поставил мне диагноз. Он взял и купил мне с сыном Антоном билет в Детройт, решил меня устроить и направил в Энн-Арбор – это Мичиган. Там было издательство "Ардис", в котором работали друзья Иосифа – Карл и Линда Профферы. Я им свалилась на голову, стала работать в их издательстве. К тому моменту я вообще ничего не умела. Умела преподавать английский. Умела переводить детские сказки с английского на русский. И все. За три дня Профферы меня научили вслепую печатать восемью пальцами. Села печатать, редактировала тексты. И это было моей хлебной карточкой. Это был интересный период: я познакомилась со студентами, которые там жили. Марихуана мне сразу не понравилась. Но все равно было интересно – я прижилась в Америке.
– Почему же не остались там? Почему не растворились в этой жизни?
– "Вы нам подходите".
– Да. Они меня спросили, каким образом я хотела бы добираться до Лондона. Я ответила, что только на пароходе "Елизавета II". Мне ответили, что это не предусмотрено. И тогда мы полетели с сыном в Лондон. На следующий же день я вышла на работу. Это был октябрь 1975 года.
– На Би-би-си вы сразу заняли нормальную должность или пришлось работать подставкой для микрофона первое время?
– Нет-нет, подставкой там никто не работал никогда. Я была programme assistant. Переводила, в эфире тексты читала, литературные программы делала, потом стала старшим продюсером.
– Работа на Би-би-си обеспечила вам британское подданство?
Русские привыкли к оседлости. Гораздо больше, чем люди на Западе
– Нет. Был вид на жительство. Еще у меня был паспорт беженца, который я получила в США. Кажется, в Англии после пяти лет можно было подавать на гражданство документы. А если ты замужем – после трех. Вот я и подала. А к 1987 году, когда в Союз начали пускать иностранцев, я получила британский паспорт. И сразу собралась в гости в СССР. Меня пугали, говорили, что меня арестуют, не выпустят обратно, но я по туристической путевке поехала. На 4 дня.
– Через 13 лет вы вернулись в Москву туристом на 4 дня.
– Да, и вот это возвращение на 4 дня было очень сильным переживанием. Сильнее, чем эмиграция в США. Всюду заборы, серые стены, темно. За 13 лет я отвыкла от этого. У меня глаза привыкли уже к краскам, к цвету… На автобусе из Шереметьево меня привезли в гостиницу "Россия". Я забросила в номер вещи. Отдала паспорт на ресепшн, чтобы меня зарегистрировали. И уехала к друзьям. А через 4 дня я обнаружила, что у меня нет паспорта. Я про него забыла. Очень боялась, что не смогу вылететь. Слава богу, паспорт нашелся.
– Вы с друзьями, которых 13 лет не видели, сразу нашли общий язык? Не было пропасти между вами?
– Я нашла с друзьями общий язык сразу. Но мне было жутко перед ними стыдно, что я прожила эти 13 лет полноценно, а от них шло какое-то уныние, будто каток по ним прошелся. У меня была жизнь, новые ощущения, работа. А они вот так как-то… Знаете, мы встретились в этой поездке с Зоей Крахмальниковой и Феликсом Световым, которые только-только вернулись из ссылки, и Зоя мне говорила: "Как же мне тебя жалко, ты же прожила вдали от родины столько лет". Я говорю: "Зоя! О чем вы?" Мне стало так неловко. Она меня жалела. Человек, который прожил в ссылке… в общем было грустно.

– Расскажите про ваших мужей. Их было трое?
– Четверо. Гриша Фрейдин – первый. Это был брак по молодости. Я его спасала от несчастной любви. И так получилось, что мы поженились. Гриша сейчас живет в Калифорнии. Мы дружим. От него родился Антон. И это прекрасно. Мы с Гришей быстро разлетелись. Я ему нашла невесту – американку. И они до сих пор женаты. Мой второй муж – англичанин Робин Филлимор. Он лорд.
– В прямом смысле этого слова?
– В прямом. Я же леди.
– Это, наверное, накладывало на вас некоторые обязательства.
– Жизнь с ним накладывала обязательства. Я была ему медсестрой. Кто же знал, что, оказавшись в Англии, я выйду замуж за алкоголика? Нужно было уехать из России, чтобы выйти замуж за алкоголика. Была проблема. Время от времени он считал, что он Иисус Христос. Это усугубляло ситуацию. Он был талантливым. Он любил русскую литературу. И в меня влюбился, потому что в тот момент читал "Войну и мир". Я ему представлялась Наташей. Я с ним прожила 11 интересных лет в его поместье. Тонкий, умный, красивый. Он ходил в бриджах, с бородкой. Невероятный. Умер, запив бутылкой коньяка какие-то таблетки.
– Третий муж?
– Я ушла с Би-би-си, хотя у меня был контракт без ограничения срока работы к тому моменту. Я его порвала. Мне предложили делать фильм в России "Вторая русская революция". И я поехала. Полтора года работы. Я сделала интервью с Горбачевым. С Ельциным. И где-то между Горбачевым и Ельциным встретила Сережу Шкаликова. Прекрасного актера МХТ. Из-за него я осталась в России. Тогда закрылась моя английская страница. Я вернулась сюда, сняла в Москве квартиру. Сережа был моложе меня на 17 лет. Но вот мы влюбились друг в друга. У Сережи был уже сын Сема. Сережа умер. А Сема остался со мной. Я его растила.
– Четвертый муж не был актером, лордом, профессором…
– Он был плотником. Четвертым мужем был мой Женя. Я называла его зодчим. Он был потрясающим. Интеллигентным. Он был кораблестроителем. Его отец – известный строитель военных кораблей. Женя был необычным.
– Но он был человеком не из вашего круга. Как вы его встретили?
– Он строил нам с Сережей Шкаликовым дом.
– В котором позже сам и поселился с вами.
– Да. Он мой ровесник. Умер два года назад. И его смерть теперь закрывает мою страницу российскую. Мой роман с Россией на этом закончен.
– Все закольцовывается. И вы уезжаете.
– Заспираливается.
– Возможно, это чисто русская особенность – говорить об отъездах с таким трагизмом? Может быть, нужно уже проще к этому относиться? Не эмиграция, а переселение…
В России все привыкли все делать вместе. Россия – это "Фейсбук"
– Русские привыкли к оседлости. Гораздо больше, чем люди на Западе. В 18 лет, живя на Западе, ты уезжаешь из семьи в университет. Ты приезжаешь к родителям только на каникулы, ты – вольная птица. А в России ты долго живешь с родителями, если тебе не повезло купить квартиру. И здесь ты привык к тому, что твоя страна должна о тебе заботиться, содержать, крыша над головой. Здесь какие-то подпорки. Дружба – подпорки. Семья – подпорки. Все тебя держит. Когда ты живешь в противостоянии государству, все равно ты не один в этом океане. С тобой единомышленники, вы вместе, вы друг друга подпираете. А на Западе этого нет. Когда я жила в Мичигане у Профферов, я как-то встала перед зеркалом и поняла, что я совершенно одна. Я и Антон. И все зависит только от меня. И нет никакой лодки и подпорок. Я стою на своих ногах. Я зарабатываю какие-то деньги. Мне страшно. Трудно. Но это так волнительно. Это эйфория. Приключение. В океане я одна. В России все привыкли все делать вместе. Россия – это "Фейсбук".
– По-вашему, тема эмиграции сейчас актуальна для России? Или это большое преувеличение паникеров в "Фейсбуке"?
– Это очень актуальная тема. Я слышу про это не только от друзей в "Фейсбуке". Кто не может уехать – тот хочет. Кто может – тот думает об этом всерьез.
– Как вам люди объясняют свое желание уехать?
– В воздухе что-то не то. Пока людей-то особо не сажают. Жить вроде можно. Но что-то не то. Атмосфера. Безнадега.
– Не так давно в федеральном информационном телеэфире друг президента олигарх Ковальчук сказал, что у всех нас наступило такое время, когда нужно определяться, где наш дом. Что бы вы ответили Ковальчуку, Маша?
– Мой дом – это там, где я и мои собаки. Я приезжаю в Англию, и мне кажется, что это мой дом. Я приезжаю сюда, и мне кажется, что это тоже мой дом. На юге Франции мне тоже так кажется. А в какой-то момент я хотела купить дом недалеко от Венеции. Дом – это язык, культура. Дом – это друзья. Дом – это семья.

– Хорошо, Бог с ним, с Ковальчуком. Но вот как быть с Цветаевой? "Тоска по родине! Давно разоблаченная морока! Мне совершенно все равно – где совершенно одинокой быть…" Стихотворение заканчивается словами: "Но если по дороге – куст встает, особенно – рябина…" Где ваша родина, Маша? Там, где рябина?
– Когда я 13 лет жила в США, Англии и мне казалось, что я Россию никогда не увижу, такой щемящей ностальгии у меня не было. Может, я ее в себе давила, потому что жить с ней нельзя, впадаешь в депрессию. Знаете, березок на Западе большое количество. Рябина – тоже есть. Когда я еду из Лондона в пригород к сыну и смотрю по сторонам, то думаю: боже, что я делаю в России? Как же здесь красиво! Чисто! А в России у меня есть у дома такой островок прекрасный… если смотреть только вперед (потому что сзади помойка) – тоже прекрасно. Но вот на днях я проехала километров 250 по Московской и Калужской областям. Невероятная красота перемежается со страшным бардаком. Грязные запущенные деревни, которые уже не деревни. Будто война прошла. Пустые поля. Проехав две области, увидела два пшеничных поля и одно капустное. Все остальное – сорняк и надвигающийся лес. Никто не пасется. Видела только гусыню с гусятами, которые паслись у урны возле автобусной остановки. Жрали из переполненной урны. От этого больно.
– Как вы думаете, как будет развиваться судьба российских медиа? Будет медленное и очень долгое гниение? Произойдет какой-то резкий перелом, связанный с изменением политического климата? Вы пережили уже, наверное, все стадии эволюций, революций и разложений российских СМИ, можете себе позволить прогнозировать.
– Мы уже видели перелом во время перестройки. Казалось, что ничего не может ниоткуда взяться, когда все закатано. И тут – бабах! Появились молодые журналисты. Сейчас – не знаю. В вашем поколении есть замечательные молодые журналисты. А вот что за вами, где это поле, на котором может что-то вырасти? Я не вижу его. У вас была возможность поработать в свободных медиа. А вот у тех, кто после вас, – поля нет. Оно заросло сорняком, как Калужская область. Эти люди путают журналистику с пиаром и рекламой. Они занимаются пиаром мэров, губернаторов и чиновников.
– Вы помимо прочего занимались в России преподаванием. Учили будущих журналистов в "Интерньюс". Получается, что все это было зря?
– Студенты меня уже тогда спрашивали: "А что нам делать? Как быть? Как работать?" Я тогда им говорила, что нужно искать другую профессию и ждать. Единственное, что у вас есть, – это имя. Нельзя несколько лет пиарить губернатора, называться журналистом и думать, что потом, когда времена изменятся, из вас действительно выйдет хороший журналист. Некоторые мои ученики ушли в другие профессии. Некоторые как-то крутятся. Но что-то в них я заложила. Может, мои принципы пригодятся людям и не в журналистике, а в чем-то другом.
– Вы были одной из тех, кто придумывал Хартию российских журналистов. Было это в 1994 году. В этом документе очень понятным русским языком регламентировалось поведение профессионального журналиста. Мы сегодня видим, что к этой журналистской хартии – даже если молодые журналисты о ней и слышали, в чем я сомневаюсь, – относятся как к туалетной бумажке. Получается, что и тут вы проиграли?
– Да даже большинство журналистов, которые подписали эту хартию, уже не в профессии . Но мы и не работали на победу. Мы просто делали то, что должны были делать. Старались. И какое-то время получалось. Просто старались работать честно.
– Что вы сделали не так?
– Не хочется быть как Путин и говорить, что ошибок я не совершала…
– Поясню. У некоторых людей, которые активно принимали решения в 1990-е годы, которые были тогда на коне, сейчас есть что-то вроде чувства вины: мол, мы все так были увлечены переменами, что толком не сумели ими правильно воспользоваться. Институтов не построили, не закрепили какие-то базовые принципы демократические, без которых страна не может быть цивилизованной. Вам это чувство вины знакомо?
– Нет. Мне очень грустно, что я сейчас не могу что-то сделать. Но на том этапе каждый делал то, что мог. Если бы я была Ельциным, я бы повесилась. Потому что упустить такой шанс… Горбачев не был ни к чему готов. Он ничего не понимал. А вот Ельцин мог бы при своей популярности развернуть страну, он мог сделать со страной все! И что-то недотянул. А мы – делали то, что могли в полную силу. Россия попала в плохие руки… но не мы же ее передали в них. И предали.
– Знаете, кого вы мне напоминаете?
– Кого же?
– Так и не выросшую Пеппи Длинныйчулок. Помните, как она говорила: "Я пилюлю проглочу, стать я старым не хочу". У вас, как у Пеппи, тоже есть своя лошадь… вы легкомысленная, много авантюрных поступков совершали в своей жизни – практически международная авантюристка. Марией Ильиничной вы так и не стали. Вы – Маша. Может, пора уже повзрослеть?

– И не стану я Марией Ильиничной никогда, потому что уезжаю туда, где по отчеству не называют. Меня Марией Ильиничной в жизни только в КГБ называли. Когда я приехала работать на Би-би-си, там уже была одна Мария Воробьева. И, чтобы нас не путать, решили называть меня Машей.
– Где бы вы хотели быть похороненной через сто лет, когда умрете? В России? В США? В Англии?
– Мне абсолютно все равно. Я хотела бы, чтобы мой прах развеяли. Я настолько не люблю могилы. Гниющие кости… бррр… Вот могилу я не хочу. Это ужасно мрачно.
– Хотите стать ветром…
– Я и есть.
– Маша, перед отъездом оставите какое-нибудь завещание? Тем, кто остается здесь.
– Я восхищаюсь молодыми людьми, которые остаются и что-то хорошее на своем маленьком участке здесь делают. Например, занимаются благотворительностью. Грустно, если и до них дойдет волна. Я преклоняюсь перед этими людьми и думаю: какой сизифов труд! Но он облегчает жизни другим! Эти люди и есть – Россия. Пока такие люди есть – Россия не погибнет. Как говорил Ельцин, берегите Россию!
К счастью, даже в момент моего "глубокого погружения во власть", совсем неподалеку от Кремля для меня всегда оставался магнит попритягательнее. На Тверской, 4, в квартире моей ближайшей подруги Марии Слоним, собиралась Московская хартия журналистов. В советское время Маше, внучке первого сталинского наркома иностранных дел Литвинова, а по совместительству - злостной диссидентке, пришлось эмигрировать в Англию, где она стала самым знаменитым голосом русской службы Би-Би-Си. А сразу же после перестройки, как только стало возможным получить въездную визу в Россию, "англичанка" Слоним, ставшая к тому моменту уже леди Филлимор, моментально собрала вокруг себя в съёмной московской квартире всех самых ярких молодых российских журналистов. Получить приглашение в эту нашу журналистскую "масонскую ложу" считали для себя престижным все ведущие российские политики.
Пожалуй, только Черномырдин во время своего премьерства к нам прийти отказался: охрана объяснила, что премьеру, по нормам безопасности, нужны два лифта в подъезде - а у нас там был только один.
"Хартия" родилась из легендарного "Клуба любителей съезда", существовавшего ещё в кулуарах Верховного Совета. Несмотря на провокативное название, съезд в этом Клубе не любил никто. Точнее было бы назвать его "Клуб любителей выпить". Причем - именно в кулуарах съезда.
Я, еще будучи "салагой" лет девятнадцати от роду, не способной взять в рот ни грамма алкоголя (как, впрочем, увы, и сейчас), с благоговением наблюдала в буфете Большого Кремлевского дворца, как мои "старшие товарищи" - Володя Корсунский с "Немецкой волны", Алик Бачан с "Голоса Америки", Лева Бруни с "Радио Франс" и примкнувшая к ним фракция газеты "Сегодня" - с особым цинизмом, прямо под звуки трансляции из зала заседаний, "принимали поправки". Сначала принималось по рюмке "за основу", через пару минут - уже "в первом чтении". А когда все поправки были уже единогласно приняты, им приходилось удаляться домой к Слоним - "на парламентские чтения".
Никогда не забуду, как я в первый раз попросилась к Маше на "выездное заседание съезда". Мне-то ведь в тот момент казалось, что взрослые, крутые политические журналисты там, у нее дома, только и делают, что дискутируют о ситуации в стране.
Слоним быстро развеяла мои юношеские иллюзии.
А-а! Да ты еще и не пьешь ничего?! Прекрасно! Приходи! Будет кому потом блевоту за пьяными убирать, - цинично проверила она меня на прочность.
Ничего-о-о! Будет молодёжной фракцией! Комсомол! - подбодрил меня Алексей Венедиктов, который, как настоящий педагог, во время съездов то и дело подходил и, будто своей ученице, ласково вздёргивал пальцем нос - для поддержания боевого духа.
Блевоты у Слоним дома по счастливой случайности не оказалось. Зато в изобилии были разбросаны экскременты.
Мария Ильинична, там у вас в комнате на полу кто-то накакал, - уважительным тактичным шепотом сообщала я Маше на ухо.
Остается надеяться, что не гости, - хладнокровно комментировала Слоним.
Кроме гостей, нагадить на пол, конечно же, было много кому: в доме у Слоним всегда находились штуки две-три приблудных собаки (сейчас, с переездом Маши за город, амплитуда колебания собачьего поголовья возросла до пяти-семи штук и оказалась щедро разбавлена конём Пушкиным, павлином Кузей и его полигамной многодетной семьёй, а также безвестными, но красивыми крылатыми и водоплавающими гадами, породу которых я назвать затрудняюсь).
Среди обитателей же первого, московского Машкиного "ковчега" был и легендарный Палыч - дворовый пес, названный так в честь Антона Палыча Чехова - потому что его, умирающего от чумки, провез контрабандой в поезде с гастролей из Ялты и вылечил Машин муж, актер МХАТа Сергей Шкаликов, Шкала.
Но на Палыча в тот раз грешили зря. Потому что когда я полезла в морозильник, чтобы достать лед, то обнаружила там, внутри, подо льдом, все ту же самую замороженную какашку, что раньше валялась на полу. Оказалось, что это все Шкала. Нет, Серега не накакал, конечно, - но зато купил искусственные экскременты и подсовывал их нам везде... Зато как Шкала переводил нас через Майдан на своей гитаре!
Вот в такую, сумасшедшую, квартиру в старинном доме на Немировича-Данченко, как ни странно, и стремились попасть все ведущие политики страны. Дом был замечателен ещё и тем, что из кухонного окна по пожарной лестнице можно было вылезти на крышу, а оттуда, сверху, как на ладони было видно Москву. Именно по этой лестнице вместе со мной и парой коллег, которые были еще в состоянии держаться за поручни, на крышу в начале 90-х годов лазал известный экономист Андрей Нечаев (развлекавший меня по пути своим фирменным, фамильным эквилибристским фокусом с нереальным выгибом большого пальца руки), и тогдашний градоначальник - тихий Гавриил Попов (вконец запуганный фамильярным обращением моих сугубо трезвых коллег "дорогой Гаврила!"), и прочие активные действующие лица постреволюционной России первого созыва.
Туда же, к Маше, поднимался выпить водки с журналистами (и по-отцовски посочувствовать мне - непьющей) замечательный актер и потрясающий человек Всеволод Абдулов, живший этажом ниже. Время от времени заваливались и коллеги Шкалы по МХАТу - обаятельный дебошир Ефремов-младший и талантливая актриса Евгения Добровольская.
Каждый раз, прилетая из Нью-Йорка, в гости к Маше Слоним спешил зайти и наш общий "американский дядюшка" -Алик Гольдфарб, всегда приносивший, как волхв, один и тот же набор даров: роскошное (как меня уверяло пьющее большинство) французское вино и, наоборот, самые дешёвые советские рыбные консервы на закуску. Потомственный авантюрист Гольдфарб, который во времена СССР даже родного папу умудрился выгодно выменять на советского шпиона, теперь водил дружбу то с Соросом, то с Березовским, но всегда оставался "нашим", готовым в любой момент показать всем своим приятелям-олигархам кукиш в кармане, ради того чтобы затеять какой-нибудь очередной сумасшедший проект в поддержку друзей-журналистов в России.
И именно оттуда, с Машкиной "колокольни" на улице Немировича-Данченко, где открывался прекрасный вид на старый центр Москвы, я впервые свысока и взглянула на Кремль.
Некоторые политики - например Егор Гайдар, в бытность премьером, и Шахрай, в бытность вице-премьером, - просили устроить "выездную сессию" у них в кабинете - потому что охрану их сразу хватал кондратий, как только она видели, в какую фата-моргану зовут их босса. Тогда мы приходили к ним сами. А Слоним даже и туда, в кабинеты "высоких начальников", умудрялась пронести с собой частичку своей фиганутой квартиры.
Однажды она вдруг начала громыхать по чиновничьему столу каким-то пакетом:
Ой, извините, это у меня там кости гремят...
У высокопоставленного чиновника вытянулась морда.
Ну в смысле - собачьи кости... Ну не собачьи, конечно, - понимаете, а говяжьи - мне собак кормить надо... - начала оправдываться Слоним.
Стук Машкиных костей так до сих пор и остается для меня самым лучшим камертоном в общении с государственными чиновниками любого ранга.
Вскоре, с приходом новой политической эпохи, состав наших гостей резко сменился. По символическому совпадению, переехала в новую квартиру, поближе к Кремлю, и Маша: теперь мы уже звали Татьяну Дьяченко, Бориса Немцова, Альфреда Коха, Михаила Ходорковского, Александра Волошина - в дом на Охотном ряду, дверь в дверь с нынешней Госдумой.
Работать в этой "засвеченной" явочной квартире было уже просто невозможно. Как-то раз, когда к нам в гости заявился Немцов (служивший в тот момент в ельцинском правительстве), я, воспользовавшись тем, что вся компания еще только рассаживалась и разогревалась аперитивом, быстренько додиктовывала в редакцию репортаж о перестановках в Кремле по городскому телефону. И вдруг, безо всякого щелчка, в мой телефонный разговор гладко вклинился нежный женский голос:
Здравствуйте, извините, пожалуйста, что я вас перебиваю, но не могли бы вы позвать к телефону Бориса Ефимовича?
От такого свинства я просто опешила. Ну, думаю, Немцов совсем уже обнаглел! Мало того что он каким-то девушкам наши телефоны раздает, - так они еще и в телефонные разговоры каким-то хитрым фокусом встревают!
Нет, не могла бы позвать! - злобно отрезала я. - У меня срочный репортаж, будьте так любезны перезвонить позже.
Ой, ради Бога, простите, не сердитесь! - сбивающимся смущенным голоском начала оправдываться девушка. - Дело в том, что с ним срочно хочет поговорить Борис Николаевич, - это из приемной президента вас беспокоят...
Как-то раз позвали Березовского. В честь диковинного гостя хозяйка дома даже наготовила котлеток: "Ну он-то наверняка есть не будет, побрезгует... Ну ничего - нам больше достанется..." Этот прогноз не оправдался. Как не оправдался и прогноз других моих коллег, что "Березовский посидит полчаса - и убежит".
И котлетки почти все съел. И часа четыре с половиной в гостях просидел, уморив разговорами даже самых стойких репортеров. Я в тот день дежурила в газете и приехала позже всех, часа через два после начала встречи. Подхожу к дому, уже даже и не надеясь, конечно, застать Березовского. И тут навстречу мне из подъезда выскакивает совершенно осоловевший Пархом (Сергей Пархоменко - тогдашний главный редактор журнала "Итоги", по сути, уничтоженного потом в ходе путинского раскулачивания Гусинского) и на все мои расспросы только в ужасе машет руками:
Не-е-е! Никуда он оттуда уже не уйдёт!!! Мы все помрём, а он все говорить и говорить будет...
Меня же в Березовском больше всего поразили его длинные, тонкие, музыкальные, невероятно чувственные и нервные пальцы, которыми он эти самые Машкины котлетки тягал из мисочки. Эти аристократичные пальцы категорически не вязались со всем публичным образом этого человека.
Но вот уж кто действительно мог уморить нас беседами, так это Явлинский. Этого политика долго упрашивать прийти в гости не приходилось. Но как только его впускали в дом, он затягивал свое обычное, мерное, нарциссическое соло. И уже примерно на десятой минуте давно знакомой всем арии "Явлинский о Явлинском с любовью" мы тихо начинали засыпать, не похрапывая только из приличия. Из всех его рассказов мне запомнился только один-единственный (видимо, как раз потому, что там не было ни слова о нём, любимом)...
Как-то раз правозащитник Сергей Адамович Ковалёв пошел к Ельцину заступаться за арестованных в Белоруссии диссидентов, которые устроили демонстрацию против Лукашенко.
Борис Николаевич, позвоните, пожалуйста, Лукашенко и попросите, чтобы он хотя бы изменил студентам меру пресечения... - попросил правозащитник (имея в виду, чтобы он хотя бы до суда выпустил их из тюрьмы под подписку о невыезде).
Ельцин, который всегда относился к Адамычу с уважением, тут же снял трубку и потребовал соединить с Лукашенко:
Александр Григорьевич, вот тут у меня Ковалёв сидит, уважаемый человек... Знаете, нужно бы изменить меру пресечения вашим арестованным демонстрантам!
И тут, как догадался Ковалёв, Лукашенко на том конце трубки возмущённо переспрашивает: "Как это так, "изменить меру пресечения"?!"
И Ельцин ему начинает объяснять. Но - в меру своего понимания:
Ну как-как! Изменить, и всё! Например: у кого пять лет - тому два года дать, у кого два года - тому "условно"...
По словам Явлинского, услышав это, бедный бывший зэк Ковалёв чуть в обморок не упал.
К этому времени неофициальный "Клуб" уже институализировался в серьёзную, влиятельную, единственную в стране действительно независимую ассоциацию журналистов: "Московскую Хартию журналистов". Каждый из нас добровольно подписался под правилами, которые он обязался выполнять в профессии. Хартия гласила, в частности, что журналист "не принимает платы за свой труд от источников информации, лиц и организаций, заинтересованных в обнародовании либо сокрытии его сообщения".
Кроме того, каждый из нас поставил свою подпись под тем, что журналист "отстаивает права своих коллег, соблюдает законы честной конкуренции, добивается максимальной государственной открытости государственных структур". А также "избегает ситуаций, когда он мог бы нанести ущерб личным или профессиональным интересам своего коллеги, соглашаясь выполнять его обязанности на условиях, заведомо менее благоприятных в социальном, материальном или моральном плане".
Именно эти пункты нашей журналистской "Декларации прав человека" очень скоро стали так болезненно актуальны для многих из нас. Ровно с такой гордой и свободолюбивой цеховой "конституцией" мы, ведущие политические журналисты страны, и встретили внезапно обрушенные на нас олигархами информационные войны, а потом - путинский разгром негосударственных СМИ. И в какой мере каждый из нас сдержал это добровольное обещание, скрепленное подписью, - судить теперь только нам самим.
Мария Ильинична (Маша) Слоним (род. 6 ноября 1945 г., Москва) - российский и британский журналист. Родилась в семье скульптора И.Л. Слонима и Т.М. Литвиновой - дочери наркома иностранных дел СССР (1930-1939 гг.) М.М. Литвинова и англичанки Айви Лоу. Двоюродная сестра диссидента Павла Литвинова. В 1970 г. окончила филологический факультет МГУ. В 1974 г. эмигрировала в США. С 1975 г. жила в Лондоне. 1975-1995 гг. - сотрудник Русской службы Би-би-си. 1989-1991 гг. - продюсер документальных телевизионных фильмов Би-би-си. 1992-1994 гг. - московский корреспондент Русской службы Би-би-си. 1997-2000 гг. - ведущая телепрограммы «Четвертая власть» (РЕН ТВ). 1998-2006 гг. - преподаватель в школе журналистики некоммерческой организации «Интерньюс». Сопродюсер сериала «Вторая русская революция» (BBC, 1991 г.), автор фильма «Это тяжкое бремя свободы» (2001 г., производство «Интерньюс»), сопродюсер фильма «Анна Политковская: семь лет на линии фронта» (2008 г., Channel 4), сопродюсер фильма «Путин, Россия и Запад» (BBC, Discovery, 2012 г.). С 1991 г. живет Москве.
Если бы вас в год вашего отъезда из СССР - 1974-й - спросили, принадлежите ли вы к диссидентскому движению, как бы вы ответили тогда?
К тому времени думаю, что да. Потому что уже начались неприятности, связанные именно с этой деятельностью. Дело в том, что я подключилась на довольно позднем этапе - на позднем этапе своей жизни в Москве и на позднем этапе движения. Потому что тех людей, кто действительно этим занимался серьезно, начали арестовывать. Павел Литвинов, Наташа Горбаневская, [Александр] Гинзбург. А я была где-то на периферии всего этого. Они были друзьями друзей, ну, не считая, конечно, Павла, который был двоюродным братом. Это немножко более старшее поколение было, во-первых. А во-вторых, для нас дома, для папы Павел был таким примером не для подражания, он очень боялся, что я втравлюсь в эту историю, действительно волновался. Не из-за этого, конечно, я не бросилась тогда в диссидентство с головой - просто мне было 20 лет, у меня был маленький сын, и немножко было не до того. Потом, еще учась в университете, стала подписывать письма протеста, когда начали арестовывать людей.
Ходила на демонстрации на Пушкинскую, до этого был у меня очень юный опыт, когда на Маяковке поэты читали стихи, и я тоже ходила тогда, я еще в школе была. Это 1961-1962 годы, когда там [Юрий] Галансков читал свой «Человеческий манифест» . Прямо у памятника, на постаменте и вокруг, собиралась в основном молодежь. Много. Вечерами это было, я помню, было темно. Потом брандспойты приезжали, кого-то заталкивали в автозаки, которые тогда еще так, впрочем, не назывались.
- Никаких звукоусилителей не было, читали в силу собственного голоса?
Да-да. Я невинное что-то, Цветаеву читала. И вообще большинство читало стихи. Потом появились СМОГи, молодые гении. И Галансков, конечно, с «Человеческим манифестом» прогремел. И, по-моему, загремел. Вот это было раннее. Потом - ребенок, университет, то-се, какая-то богемная тусовка, скажем так. Но я еще одним боком оказалась в этом деле - у нас дома крутилось много иностранцев… По традиции приходили, приезжали.
- По традиции от дедушки?
И я ничего не помнила, вообще! Потому что я поняла: Гарик с ними играл в игры, когда они вызывали его на допросы, он думал, что их переиграет. Потом его арестовали, и, в принципе, стало понятно, что они профессионалы, а мы любители, нам нельзя играть. Я знала совершенно точно. Хотя очень соблазнительно было поиграть! Мы же играли с ними все время. Вот когда слежка, например. Они втягивают тебя в эту игру.
Позднее КГБ стал следить за моим домом - это было позже, потому что я еще участвовала в истории с вывозом библиотеки Солженицына.
- Это после того, как Александра Исаевича в феврале 1974 года выслали и Наталья Дмитриевна с детьми уезжала?
Да, выслали, но тогда Наташа еще не уехала, она была еще здесь. А я обзвонила, кстати говоря, иностранных корреспондентов, когда его арестовали . Потому что у меня была книжка Виктора Луи и его жены, они составляли ежегодник Information Moscow , где были все телефоны всех корпунктов иностранных СМИ в Москве. Мне позвонила Екатерина Фердинандовна, теща Солженицына, и сказала: «Маша, Маша, сообщи!» И я из телефона-автомата обзванивала всех-всех-всех. Это было мое первое журналистское задание, пожалуй (смеется) . Я поработала агентством таким. А потом нужно было вывезти его библиотеку через иностранцев, и была какая-то бесконечная операция. Все знали всё, я уверена, потому что за мной ездил микроавтобус КГБ буквально. Мой Антоша, которому было к этому времени шесть лет, выглядывал в окно и говорил: «Мама, они опять стоят!» И они за мной все время ездили, я же для конспирации ездила в квартиру Солженицыных с большой сумкой, набитой памперсами… Тогда вдруг появились памперсы, и младшему сыну Солженицыных, Степе, нужны были памперсы. И под видом того, что я снабжаю семью Солженицына памперсами, я привозила большую сумку с памперсами, а потом эту сумку набивала книгами из библиотеки и передавала.
- В посольства?
Нет, журналистам своим знакомым. А они уже передавали в посольства. Везли, конечно, диппочтой. Так что следили все время. И это даже заводило немножко. Меня это раздражало тогда, потому что ты втягиваешься, это уже становится какой-то авантюрной игрой, и весело, даже это тебе льстит немножко, тебе кажется, что ты знаешь, как сбросить хвост, как уйти…Никто не сбрасывал и не уходил, наверное, хотя и были проходные дворы в Москве, и возможности были. И вот после ареста Гарика меня допрашивали на Лубянке, потом обыск, прямо с Лубянки привезли домой. Еще когда везли на Лубянку, я не совсем понимала, в каком качестве, на самом деле, я туда еду.
- Когда ты с двух сторон окружен…
Нет, с двух сторон в машине посадили как раз моих друзей, Диму [Вадима] Борисова и Андрея Зализняка, которые меня встречали. Они вот так зажали почему-то нас втроем, а впереди были водитель и следователь [Михаил] Сыщиков. И он, уже когда отъехали от Рижского, говорит: «Мария Ильинична, я хочу прочитать и передать вам повестку…» И прочитал он: «Вы вызываетесь на допрос в КГБ в качестве…» И такая театральная пауза. И я думаю: так, Антоша с мамой - это хорошо, но садиться совсем не хочется! «…В качестве свидетеля», - закончил он радостно и торжественно. А потом на обыске тоже этот Сыщиков был, масса каких-то молодых ребят была, ну, не масса, несколько человек. И молодые очень со мной флиртовали, говорили: «Вот, вы не с теми вообще связались. Вы бы с нами лучше…» Какой-то такой разговор был. Тогда угроз никаких не было. Но тогда еще шел Московский кинофестиваль, и билеты на него достать было просто невозможно, а они мне предлагали билеты. И даже оставили телефон свой, если я вдруг захочу…
В общем, оставили телефон, которым я, при всем желании пойти на фестиваль, как-то не воспользовалась. Но все равно говорили: «Вы смогли бы быть с нами, вы не с теми связались…» Но там все было так неплохо. Я даже заснула во время обыска, он долгий был, правда. Они искали там архив «Хроники», архив самиздата, немножко вспороли старые кресла. Искали - смотрели на потолок, потому что на стене были следы… Ребята развлекались, мои друзья, мужики, выпив, взбегали - кто выше взбежит по отвесной стене в ботинках на резиновой подошве. Поэтому оставались следы прямо на стене. Ну, наверное, метра на два уходили. И сыщики говорят: «А это куда следы?» Я говорю: «А это в архив “Хроники” как раз…» В общем, потолок они не потрошили, но искали самиздат в моей маленькой квартире долго, часов восемь обыск продолжался.. Но к тому времени, сразу после ареста Гарика, друзья мне почистили квартиру, а может быть, Гарик сам уже что-то унес, я не знаю. И, в общем, ничего такого особо опасного они не нашли. Ну, конечно, нашли в ящике письменного стола какое-то заявление, какое-то письмо Солженицына на папиросной бумаге.
 Андрей Зализняк
Андрей Зализняк
- Вы были знакомы с семьей Солженицыных?
Да, конечно! И с ним, и с Наташей в основном. Потому что Дима Борисов дружил с Наташей, и у нас как бы одна компания была.
- Бывали у них дома?
Да. Бывала. Не только в Москве, а бывала у них и в Цюрихе. Заехала уже по дороге в Лондон, когда эмигрировала. С Наташей у нас очень теплые были всегда отношения. Александр Исаевич отдельно, конечно, был. Хотя я помню его и за столом, очень дружелюбным. Но он все время работал, он у себя в кабинете по большей части был уже тогда. Я ничего не знала, конечно, когда я с ним в Москве виделась, про «Архипелаг». Еще не знала. Потому что это был очень узкий круг посвященных, я не была посвящена.
Так что тогда был такой обыск, и потом меня отпустили. А после допроса мне даже выписали деньги за билет назад в Ригу, они прошли как командировочные. Правда, по-моему, в один конец. Я помню, какая-то такая фигня все-таки была, что не в оба конца. Или не оплатили международное купе. Но деньги я получила прямо на Лубянке. Так что вот так все было мило. А потом, уже перед отъездом, были не то что угрозы, а уже меня вызвали на допрос на Лубянку по совершенно другому делу…
У Наташи Гутман - а мы дружили… ну, я не могу сказать, что дружили, но папа делал портреты, лепил ее, в общем, это скорее родительские были друзья - был муж в тот момент, красавец Володя Мороз . Он собирал и продавал иконы, по-моему. Во всяком случае, у него была большая коллекция искусства. И вот [в июне 1974 года] его арестовали. Уже они, по-моему, с Наташей были в разводе. А я его знала, потому что он доставал нам контрамарки, и я якобы была в его телефонной книжке, когда его арестовали. А там очень серьезное было дело, действительно, ему чуть ли не расстрел грозил. Или большой срок. И мне совершенно не хотелось с этим связываться. А вызвали меня, потому что за мной следили и я передала ночью какой-то самиздат знакомому корреспонденту. Он меня подвез на машине домой (я тогда с родителями жила на Миусах), остановился за один квартал от дома - у нас конспирация такая была, считалось, что нельзя прямо до подъезда, - я вышла из машины, пошла к дому и слышу - тук-тук-тук, за мной шаги, и потом в подъезд за мной входит мужик. И говорит: «С кем вы сейчас встречались?» Я говорю: «А вы кто такой?» - «Я из уголовного розыска». Я говорю: «Да ладно!» - «Хотел задать вам несколько вопросов». Я говорю: «Хотите задавать - присылайте повестку на допрос». Я ужасно грамотная была уже. Он говорит: «А в какой квартире вы?» Я говорю: «Ну, вы же угрозыск, на Петровке, 38 все знают, так что узнавайте номер квартиры, мой адрес». И меня через несколько дней вызвали повесткой, но не на Петровку, а на Лубянку. А у меня к тому времени был уже заграничный паспорт, прямо выданный мне на ПМЖ в США. Мне друзья говорили: «Не бери с собой паспорт!» Я говорю: «Какая разница, они могут отобрать мой паспорт в любой момент и аннулировать выездную визу могут когда угодно, не обязательно на Лубянке.… Конечно, я возьму паспорт». А другого уже и не было. Тогда ведь забирали внутренний, как только выдавали заграничный для выезда на ПМЖ. И тут началась какая-то чехарда. Ну, про Володю Мороза спрашивали, я сказала, что я абсолютно не знаю его. «А вот ваш телефон найден в его телефонной книжке». - «Не имею понятия». И потом даже был «парад» - мне показали фотографии шести уголовников и его среди них, красавца: «Узнаете?» Я говорю: «Нет, никого не узнаю». И пошла какая-то чехарда - один следователь уходил, другой приходил, и все вертели мой паспорт в руках. Все вертели паспорт, играли так им. Говорят: «Вот, у вас всегда был зеленый свет, но может быть и красный…» Я говорю: «Я знаю. Я знаю, что я в ваших руках. Вы захотите - меня выпустите…» - «А вот зачем вам туда ехать? Чужие люди. Лучше бы вы с нами…» Я говорю: «Ну, как-то мне иногда чужие ближе, чем свои. Я знаю, что я в ваших руках, можете меня выпустить, а можете запретить выезд. Так что мне все равно абсолютно. Захотите - выпустите, не захотите - не выпустите». И это, я думаю, они еще прощупывали на предмет того, можно ли меня будет использовать каким-то образом за границей, смотрели, буду ли я плакать и умолять: «Дяденьки, отпустите меня, я все для вас сделаю».
 Фото из архива Маши Слоним
Фото из архива Маши Слоним
- Тот факт, что вы - внучка Литвинова, играл какую-то роль?
Конечно! Я думаю, конечно. Поэтому они не арестовывали. Они уже с Пашей прокололись, потому что шум был большой. Паше дали ссылку, а не лагерь, тоже, в общем-то, благодаря деду…
- А как возникли желание и возможность уехать - и (уникальная ситуация) не через Израиль?
Желания никакого у меня не было, было желание у моей мамы меня вышвырнуть из страны, как из горящего дома. Она боялась, что меня арестуют, что она одна останется с моим сыном… К тому времени мой бывший муж [Григорий Фрейдин], отец Антона, уже уехал в Америку. Он женился. Я ему нашла невесту. Он женился на американке и уехал как ее муж. Ну и стал профессором Стэнфорда. То есть я нашла ему невесту, там оказалось все замечательно и прекрасно, они до сих пор вместе живут. Хотя на обыске меня подозревали в том, что у нас фиктивный развод. Потому что они нашли от Гришки письма: «Дорогая Машуля… Машенька…» Я говорила: «Мы друзья! Какая разница…» А они: «Так друг другу не пишут люди, которые развелись!»
И он был уже там, мама очень не хотела, чтобы меня арестовывали… Я об этом и не очень думала, честно говоря, мне было вполне весело здесь, я чувствовала себя на месте. Но я вообще человек авантюрный. И я просто пошла в ОВИР, взяла анкеты… Мне прислали приглашение Чалидзе, Валера и Вера, моя сестра. Моя сестра тогда была замужем за Чалидзе. Чалидзе - соратник Сахарова…
- Чалидзе уехал в 1972-м, по-моему.
А он не хотел уезжать! Вот что удивительно. Он был страшно расстроен, Валера. Он не собирался уезжать, он человек очень такой… упертый и принципиальный. Нет, он не хотел уезжать, он собирался здесь продолжать борьбу. Он думал, что он докажет, что можно поехать в США и просто прочитать лекции. А потом вернуться. Вот так и доказал… и он сказал: «Да, я еду читать лекции». И для Веры это был страшный удар, когда его лишили гражданства.
И они мне прислали приглашение. А тогда были, если помните, Хельсинкские соглашения и «третья корзина», касавшаяся прав человека, в том числе принципа «воссоединение семей». И вот мы шли как воссоединение семьи с «врагом народа» Чалидзе. А у Валеры довольно такие крутые связи были уже к тому времени в Америке. И я попала в «список Киссинджера». Когда Киссинджер сюда приезжал, он тряс этим списком, в котором была и моя фамилия. И мне дали разрешение на выезд просто на ПМЖ с советским паспортом в США прямиком. Ну, оказалось, что не прямиком, а надо было все равно в Риме провести время, потому что американцы тогда ставили такие недовизы въездные. У них был какой-то закон, что они не могут давать эмиграционные визы на территории стран Восточного блока. И поэтому они для советских ставили эту визу, что я еду туда, а на самом деле в Риме надо было пройти какой-то фильтр - типа анализы на туберкулез, рентген, реакция Вассермана. В Риме мы провели недели три, а из Рима я поехала с Антоном к Солженицыным в Цюрих. Антон, как утверждала нянька солженицынских детей, научил их ругаться матом. Наташа очень смеялась. Мы несколько дней там провели. А потом поехали в Англию, где была уже моя бабушка, она вернулась в 1972-м. Ее Брежнев выпустил. Первый раз ее Хрущев выпустил, в 1960 году на год, у нее сестры еще были живы. А уже в 1972 году она сказала, что хочет умереть на родине, и ее выпустили. Не мучили. Маму с ней не выпустили, но ее отпустили. И бабушка очень хотела, чтобы я в Англии застряла, но поскольку у меня было направление на Америку, Англия меня бы так просто не взяла. И бабушка хотела, чтобы я подала на работу на ВВС . В общем, я подала, пожила в Англии и отправилась в Америку ждать приглашения от ВВС .
 Фото из архива Маши Слоним
Фото из архива Маши Слоним
То есть у вас получилось выехать так, как очень хотел выехать Иосиф Бродский, но у него как раз не получилось.
Да, у него не получилось. Они хотели его унизить. Потому что они знали, что он хотел выехать как свободный человек. Ой, до этого у меня тоже были авантюры, я тоже пыталась доказать, что я свободный человек! Я хотела съездить в Калифорнию, к своему бывшему мужу… Просто съездить на месяц, чтобы ребенок мог повидаться с отцом. Ответы ОВИРа были чудесные. «Мы не хотим, чтобы вы разрушили новую американскую семью» (смеется) . Я говорю: «Хорошо, тогда давайте отправим одного Антона - повидаться с папой». Но это тоже было никак невозможно. Нет, я всякие интересные варианты рассматривала.
Вопрос немного в сторону. В «Хронике текущих событий» фиксировались эмиграция, выезд за рубеж деятелей культуры, правозащитного движения. Но там никак не отражен отъезд Бродского. С чем это связано? Случайность ли это или это тогда совсем не воспринималось в политическом контексте?
Нет, для нас, безусловно, это было событие. Но, конечно, не для многих.
- То есть его совсем не ассоциировали с правозащитным кругом…
Нет, совсем нет! И он был принципиально как-то «не».
- У него не было связей с диссидентским кругом?
Не было, не было.
- Сознательно или просто, как говорится, жизнь так складывалась?
Не тот он человек, вот не тот.
- Он же был хорошо знаком с Натальей Горбаневской?
Да, но исключительно как с поэтом. Одно время он говорил: «Пожалуй, лучший поэт России - это Горбаневская». Подразумевалось, конечно, «после меня».
- Но на территорию политического он не заходил?
Не заходил, не заходил. Потом они написали с [Андреем] Сергеевым «Письмо Брежневу» , но уже перед самым отъездом.
- Оно вместе с Сергеевым написано?
Да, они с Сергеевым написали. Я не перечитывала это письмо потом, но тогда оно странное произвело впечатление. Но он почти сознательно не хотел во все это влезать. Ну, поэт…
- Бродский читал «Хронику», было ли ему это интересно?
Вот насчет интересно… Нет. В нашем с ним общении это никак не присутствовало.
- То есть политическая повестка шла параллельно.
Абсолютно, да. Не было там обмена книжками какими-то, не возникало. По-моему, сознательно он всегда как-то этого сторонился… Но он и не был правозащитником, и в душе не был.
Кстати, с Бродским связана еще одна история того же времени. Помимо Киссинджера с его списком в СССР тогда приехал мой старый приятель Джерри Шефтер, который работал здесь в «Вашингтон пост». Он приехал с Киссинджером, освещать его визит. Он уже, по-моему, был в Америке к тому времени. И я через него в Газетном переулке, который назывался тогда улицей Огарева, по-моему, передала фотопленки со стихами Бродского. Это была весна 1972 года. Было еще холодно, я помню, Джерри в плаще был, и это была совершенно шпионская история. Центральный телеграф, мы идем в сторону улицы Герцена, тихо разговариваем, как будто то ли знаем друг друга, то ли нет, не глядя друг на друга. И я так незаметно ему в карман сую эти самые пленки, которые получила от Иосифа.
И в ту же поездку, по-моему, Джерри вывез воспоминания Хрущева.
Имя Чалидзе напомнило, кстати, мне еще одну историю. Как я, находясь в Москве, была связующим звеном с [Звиадом] Гамсахурдиа. Это была чудесная история! Звонок по телефону. А уже довольно напряженное время было, как раз мы вывозили библиотеку Солженицына. Звонок, из автомата явно с акцентом: «Я друг Чалидзе…» Ну, друг Чалидзе - я решила, что это из Америки. Я говорю: «Заходите». Приходит грузин с бутылкой коньяка. Говорит: «Я Звиад Гамсахурдиа». Красивый, но уши немножко оттопырены. А в это время следили за всеми - и кто, откуда, какой-то Звиад… А он выкладывает вот такую пачку, пухлую, подержанных купюр и говорит: «Это от нашего движения вашему движению». Я говорю: «Нет, Звиад, подожди. Давай позвоним Валере Чалидзе». А у меня телефон как раз тогда работал. Он иногда не работал, а тогда работал, в смысле, за границу можно было звонить. Звоню Валерке и говорю: «Валер, у меня тут твой друг сидит - Звиад Гамсахурдиа». Он сразу понял, что меня интересует, и говорит: «Все нормально, только уши ослиные». Типа - дурак. Ну, выпили мы бутылку коньяка, он стал приставать, естественно. Вначале, значит, долго-долго мне рассказывал про свои философские взгляды - он увлекался тогда антропософией, а потом стал приставать. В общем, я его выперла. Я говорю: «Деньги забери! Я поговорю с друзьями». И он сказал: «Я еще зайду». Я поговорила с Наташей Солженицыной, с Димой Борисовым, еще с кем-то, с Володей Альбрехтом, кажется. В общем, в конце концов я Альбрехту все и отдала, потому что он как раз передачами занимался, помощью семьям [политзаключенных].
 Фото из архива Маши Слоним
Фото из архива Маши Слоним
- Уже был фонд солженицынский?
Нет, это еще до фонда. Альбрехт занимался помощью семьям политзаключенных. Фонда еще не было, еще и Наташа не уехала. А потом Звиад мне стал звонить из Тбилиси прямо и говорить: «Так, Маша, записывай…» Какие-то заявления (смеется) … Вначале я действительно записывала и передавала. «И передавай иностранным журналистам!» - говорил он прямо по телефону прямым текстом. И я, как дурочка такая, все это делала. Потом уже я поняла… Помню, лежу в ванной, а он звонит: «Маша, записывай…» И я так на пару по стене что-то пишу и понимаю, что уже никому не буду ничего передавать. А потом он меня объявил агентом КГБ, когда уже я была в Англии, работала на ВВС , и вообще запретил мне въезд [в Грузию]. А у него тогда связи уже были, он еще не был, конечно, никаким президентом, но уже открывал ногой многие двери…
- Это самый конец 80-х.
Да. Уже когда грузино-абхазский конфликт был. Он мне говорил: «А что ты делаешь интервью с абхазами? Ты должна наши заявления давать на ВВС ». Я говорю: «Слушай, я на ВВС , я должна и то, и то давать». И он, потом мне сказали, объявил, что я агент КГБ, что мне въезд в Грузию запрещен. Вот такой друг у меня был! (Смеется.)
- В Англии вы были дружны с Буковским...
После отъезда, да. Удивительно, что с Буковским здесь мы разминулись как-то, то есть я уехала - он еще сидел, до этого я его видела, но так, мельком. А потом он приехал, когда его выслали, из Цюриха он приехал ко мне в квартиру, можно сказать.
- Почему он в Штаты не поехал, например?
Он в Англию поехал. Он и хотел в Англию. И его, по-моему, Кембриджский университет пригласил тогда уже. Как вышло, что он у меня в квартире оказался… Это интересный вопрос… У меня все оказывались в квартире! Я купила большую квартиру, взяв ипотеку и заняв у Солженицыных, кстати, пять тысяч долларов, которые я потом отдала. Я работала на ВВС , и деньги были очень, скажем так, ограниченные.
- Пять тысяч - это по нынешним временам тысяч 50?
Нет, даже побольше. Квартира стоила 17 тысяч фунтов. Это дорого было! По моей зарплате, я получала четыре тысячи в год. А это - 17. И мне все говорили: «Ты не потянешь ипотеку». Пять тысяч были первым взносом, у меня не было никаких вообще денег, и дали Солженицыны, заняли мне денег. Я их торжественно выплачивала каждый месяц и выплатила. Квартира эта меня привлекла тем, что она была похожа на московские… не такие, как, знаете, перестраивают английские большие дома в какие-то клетушки, а она была с коридорной системой, и пять комнат. Пять комнат! И коридор. И из коридора можно было попасть в пять этих комнат. У меня была одна комната свободная. К тому времени [Зиновий] Зиник у меня уже жил… Подруга моя английская снимала комнату. И одна была свободная комната. И я Володьке сказала… А она маленькая такая комнатка, прямо камера. Это была единственная комната, где у нас был полный порядок (смеется) ! Потому что Володя - мне прямо хотелось плакать - каждый день заправлял кровать, и все было так чисто и аккуратно, как в камере. Помню, [Андрей] Амальрик приезжал. С Володей было замечательно совершенно! Мы выпивали, была тяжелая для меня, жутко тяжелая жизнь, потому что московские привычки, гости потоком… А мне в 10 утра надо было быть на ВВС , между прочим, работать. В общем, ночью кончалась, конечно, выпивка, ну и казалось, что уже все, пора расходиться. А Володя говорил: «Ну?» Я говорила: «Что ну? Все, нету! Тут в 11 перестают продавать». Он говорит: «Этого не может быть!» Я говорю: «Да, это Англия, Володя». Он говорит: «Так, вызываем такси». Я говорю: «Какое такси? О чем ты говоришь?» Вызываем такси. «Блэк кэб», все нормально, и я робко говорю: «А где тут можно сигарет купить ночью?» Водитель отвечает: «Есть один магазин». А все закрывалось тогда просто! Сейчас-то там есть круглосуточные. Он говорит: «Там в Collyndale есть лавка». Володя говорит: «А там выпить-то можно купить?» Тот говорит: «Можно». И мы нашли, какие-то выходцы из Вест-Индии держали эту лавку. На витрине ничего не было, конечно, но прекрасно мы там отоваривались! И это уже называлось у нас «collyndale special» . Так что вот так мы жили. Это весело было, но немножко тяжело было на работу вставать.
- Как журналист, вы освещали какие-нибудь эмигрантские инициативы?
Да, конечно! Я делала интервью в Париже с [Андреем] Синявским, с [Владимиром] Максимовым… Смешно было! Они к тому времени поссорились, в студии невозможно их было вместе посадить. Невозможно! И я назначила им разное время в студии ВВС в Париже, чуть разрыв такой во времени - Максимов, потом Синявский. И вдруг они пересеклись, прямо там, в маленьком, тесном помещении. В общем, был неприятный момент. Потому что тогда была война прямо страшная. А мне хотелось, так сказать, объективно все стороны осветить. Руки друг другу они не подали, и, в общем, воздух, что называется, трещал от электричества.
- Работая на ВВС , чувствовали ли вы со стороны английских коллег, администрации, руководства изменение отношения к информации, исходящей от диссидентов, к месту диссидентства в информационном пространстве? Какая-то эволюция была от вашего приезда до перестройки?
Ну, наверное, какая-то была, конечно. Потому что мы - новая волна все-таки. Но дело в том, что ВВС старалась действительно получать информацию из двух независимых источников или от собственного корреспондента - такой был принцип. Собственный корреспондент ВВС (тогда не нужно никакого подтверждения) или же два независимых. Поэтому уговорить их, что вот эта информация важная, очень важная, ее надо пустить в эфир, - я пыталась это делать, но приходилось доказывать достоверность. Ну, действительно, когда что-то было важное здесь. И довольно трудно было. Я помню собеседование, когда я подавала на должность… не помню, как это называлось, ну, типа шеф-редактора, и были коварные, каверзные вопросы от английской ВВС : «По какому принципу вы дадите информацию из России, если невозможно проверить?» В общем, я что-то такое отвечала… Я тогда не получила эту работу, получил работу другой, более хитрый человек (смеется) . Или более равнодушный, не знаю. Ну нет, конечно, пыталась. Потом уже, когда перестали глушить, вдруг открылся эфир, у нас уже просто отсюда шло все. То есть не все, но очень многое, прорвало с 1987-го.
С чем, на ваш взгляд, связано то, что почти никто из диссидентов не сыграл важной роли в строительстве новой России или начинал играть, но очень быстро сходил со сцены?
Россия все-таки - страна системных администраторов, как повелось с коммунистических времен. Господи, мы же помним первый Съезд народных депутатов, были депутаты - [Юрий] Афанасьев, Сахаров, чудесные люди, но они же тоже не остались в политике. Они были личностями, а политика российская требует системных жоп. Думаю, что да. А они все-таки романтики все. Хотя я считаю, что, родись Володя Буковский в другой стране, он был бы замечательным просто политическим деятелем, политиком именно, один из немногих! Я давно так думаю. Он мог бы быть, но не в этой системе. Система выбрасывала таких людей.