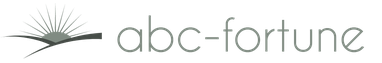В истории адвокатуры Российской империи нет более яркой личности, чем Федор Никифорович Плевако , — человек оставивший яркий след в памяти своих современников. Заслужил он такое отношение своим огромным талантом, а сама фамилия Плевако стала синонимом красноречия.
Родился он 13 апреля 1842 года в г. Троицке Оренбургской губернии в дворянской семье.
Начинал будущий адвокат свою карьеру в качестве стажера в Московском окружном суде (с 1862-1864 гг.). С 1866 Плевако Ф.Н. в присяжной адвокатуре: помощник присяжного поверенного, с октября 1870 присяжный поверенный округа Московской судебной палаты.
Вскоре Плевако Ф.Н. приобрел славу выдающегося адвоката и судебного оратора.
Остроумие, находчивость, способность мгновенно отреагировать на реплику противника, ошеломить аудиторию каскадом неожиданных образов и сравнений, к месту проявленный сарказм, — все эти качества с избытком демонстрировал Плевако.
Характерной чертой его выступлений была импровизация, Плевако никогда не готовил своих речей, а действовал по ситуации исходя из собравшейся аудитории, места и времени рассмотрения дела. Журналисты постоянно присутствовали на процессах с его участием, жадно ловля каждое сказанное им слово.
Плевако имел привычку начинать все свои выступления с фразы: «Господа, а ведь могло быть и хуже». Он никогда не изменял своей фразе. Однажды Плевако взялся защищать человека, изнасиловавшего свою дочь. Зал был как обычно полон, все ждали, с чего начнет адвокат свою речь. Неужели с излюбленной фразы? Невероятно. Плевако встал и хладнокровно произнес: «Господа, а ведь могло быть и хуже». Зал заревел. Не выдержал и сам судья. «Что, — вскричал он,- скажите, а что может быть хуже этой мерзости?», «Ваша честь, — спросил Плевако, — а если бы он изнасиловал вашу дочь?»
В историю адвокатской практики вошло множество дел с участием Плевако, когда его ум и смекалка, помогали достичь нужного результата. Вот несколько из них.
Однажды Плевако участвовал в защите старушки, вина которой состояла в том, что она украла жестяной чайник стоимостью 50 копеек. Прокурор, зная, кто будет в качестве, адвоката, решил заранее парализовать влиянии речи защитника, и сам высказал все, что можно было сказать в пользу подсудимой: бедная старушка, нужда горькая, кража незначительная, подсудимая вызывает не негодования, а только жалость. Но собственность священна, и, если позволить людям посягать на нее/ страна погибнет. Выслушав прокурора поднялся Плевако и сказал: «много бед и испытаний пришлось перетерпеть России за ее более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Москву. Все преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь, теперь… старушка украла чайник ценою в 50 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно.
Старушка была оправдана.
Как-то Плевако защищал мужчину, которого женщина легкого поведения обвинила в изнасиловании и пыталась получить значительную сумму, якобы за нанесенную травму. При этом истица утверждала, что ответчик завлек ее в гостиничный номер и там изнасиловал. Мужчина же заявлял, что все было по доброму согласию. Последнее слово оставалось за Плевако.
— Господа присяжные, Если вы присудите моего подзащитного к штрафу, то прошу из этой суммы вычесть стоимость стирки простынь, которые истица запачкала своими туфлями.
Женщина вскакивает и кричит:
— Неправда! Туфли я сняла!
В зале хохот.
Подзащитный был оправдан.
Судили священника. Вина была доказана. Сам подсудимый во всем признался и покаялся.
Встал защитник, Плевако: «Господа присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всем совершенно прав. Во всех преступлениях подсудимый сам признался. О чем тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который тридцать лет отпускал вам на исповеди ваши грехи. Теперь он ждет от вас: «отпустите ли вы ему его грехи!?»
Священника оправдали.
В личности Плевако сочетались целостность и размашистость, нигилизм и религиозность (Плевако был любителем и знатоком церковного песнопения), простота в быту и разгульное барство (Плевако устраивал пиры на специально зафрахтованных пароходах от Нижнего Новгорода до Астрахани). Беря огромные гонорары с состоятельных клиентов, Плевако безвозмездно защищал крестьян села Люторичи, поднявших восстание (кроме того, оплатил расходы по содержанию всех их за три недели судебного разбирательства).
Дом Плевако был всегда центром общественной и культурной жизни Москвы конца Х I Х начала ХХ века.
Умер Плевако 05 января 1909 года в Москве. Похоронен на Ваганьковском кладбище.
Федор Никифорович Плевако появился на свет 25 апреля 1842 в городе Троицке. Его отец, Василий Иванович Плевак, являлся членом Троицкой таможни, надворным советником из украинских дворян. У него было четверо детей, двое из которых умерли младенцами. С матерью Федора, крепостной киргизкой Екатериной Степановой, Василий Иванович в церковном (то есть официальном) браке не состоял, а потому будущий «гений слова» и его старший брат Дормидонт были незаконнорожденными детьми. Согласно традиции, свою первую фамилию, а также отчество Федор принял согласно имени крестного отца - Никифора.
С 1848 по 1851 годы Федор проходил обучение в троицкой приходской, а затем уездной школе, а летом 1851 в связи с выходом отца в отставку их семья перебралась в Москву. Осенью этого же года девятилетний парнишка был определен в коммерческое училище, расположенное на Остоженке и считавшееся в то время образцовым. Заведение нередко удостаивали своим посещением даже особы царской фамилии, любившие проверять знания учащихся. Федор и его брат Дормидонт занимались старательно и были круглыми отличниками, а имена их уже к концу первого года учебы занесли на «золотую доску». Когда в начале второго года обучения мальчиков, училище посетил племянник императора Николая принц Петр Ольденбургский, ему поведали об уникальных способностях Федора выполнять в уме с четырехзначными цифрами разные арифметические операции. Принц сам испытал мальчика и, убедившись в его умениях, подарил коробку конфет. А в самом конце 1852 года Василию Ивановичу объявили, что сыновья его исключены из училища, как незаконнорожденные. Испытанное унижение Федор Никифорович хорошо запомнил на всю жизнь, и много лет спустя писал в автобиографии: «Нас назвали недостойными того самого училища, которое хвалило нас за успехи и выставляло напоказ наши исключительные способности в математике. Боже, прости их! Эти узколобые и впрямь не знали, что творили, свершая жертвоприношение человеческое».
Лишь осенью 1853, благодаря долгим хлопотам отца, его сыновья были приняты в третий класс Первой Московской гимназии, расположенной на Пречистенке. Окончил гимназию Федор весной 1859 и в качестве вольнослушателя поступил на юрфак столичного университета, сменив свою фамилию Никифоров на фамилию отца Плевак. За годы, проведенные в университете, Федор похоронил своего батюшку и старшего брата, а на иждивении его остались больная сестра и мать. К счастью, учеба давалась талантливому юноше легко, будучи студентом, он подрабатывал репетитором и переводчиком, побывал в Германии, прослушав курс лекций в знаменитом Гейдельбергском университете, а также перевел на русский язык труды известного юриста Георга Пухты. Университет Федор Никифорович окончил в 1864, имея на руках диплом кандидата прав, и снова изменил свою фамилию, прибавив к ней в конце букву «о», причем с ударением на ней.
С призванием адвоката молодой человек определился не сразу - несколько лет Федор Никифорович, ожидая подходящей вакансии, работал стажером в Московском окружном суде. А после того как весной 1866 в связи с начавшейся Судебной реформой Александра II в России начала создаваться присяжная адвокатура, Плевако записался помощником к присяжному поверенному, одному из первых московских адвокатов Михаилу Ивановичу Доброхотову. Именно в звании помощника Федор Никифорович впервые проявил себя как искусный адвокат и в сентябре 1870 был принят в число присяжных поверенных округа. Одним из первых уголовных процессов с его участием стала защита некоего Алексея Маруева, обвиненного в двух подлогах. Несмотря на то, что Плевако проиграл это дело, а его подзащитный был отправлен в Сибирь, речь молодого человека хорошо продемонстрировала его недюжинные таланты. О свидетелях по делу Плевако говорил: «Первый приписывает второму то, что второй приписывает, в свою очередь, первому… Так уничтожают они себя взаимно в самых важных вопросах! И какая к ним вера может быть?!». Второе дело принесло Федору Никифоровичу первый гонорар в двести рублей, а знаменитым он проснулся после казавшегося проигрышным дела Кострубо-Карицкого, обвинявшегося в попытке отравления своей любовницы. Даму защищали два лучших российских адвоката того времени - Спасович и Урусов, однако присяжные оправдали клиента Плевако.
С этого момента началось блестящее восхождение Федора Никифоровича на вершину адвокатской славы. Резким нападкам своих оппонентов на судебных процессах он противопоставлял спокойный тон, обоснованные возражения и подробный анализ улик. Все присутствовавшие на его выступлениях единодушно отмечали, что Плевако был оратором от Бога. Услышать его речь в суде люди приезжали из других городов. В газетах писали, что когда Фёдор Никифорович заканчивал выступление, зал рыдал, а судьи уже не понимали, кого им судить. Многие речи Федора Никифоровича стали анекдотами и притчами, разошлись на цитаты (например, любимая фраза Плевако, которой он, как правило, начинал свою речь: «Господа, а могло ведь быть и хуже»), были занесены в учебные пособия для студентов юридических ВУЗов и, бесспорно, являются достоянием литературного наследия страны. Любопытно, что в отличие от других светил присяжной адвокатуры того времени - Урусова, Андреевского, Карабчевского - Федор Никифорович беден был внешними данными. Анатолий Кони описывал его так: «Угловатое, скуластое калмыцкое лицо. Широко расставленные глаза, непослушные пряди длинных темных волос. Облик его мог бы назваться безобразным, если бы не внутренняя красота, просвечивавшая то в доброй улыбке, то в одушевленном выражении, то в блеске и огне говорящих глаз. Движения его были неровными и подчас неловкими, адвокатский фрак сидел на нем нескладно, а пришептывающий голос исходил, казалось, наперекор его призванию оратора. Однако в голосе этом звучали ноты такой страсти и силы, что он захватывал слушателей и покорял их себе». Писатель Викентий Вересаев вспоминал: «Главная сила его была заключена в интонациях, в необоримой, прямо волшебной заразительности чувств, которыми он умел зажечь слушателей. Поэтому его речи на бумаге и близко не передают их поразительной силы». По авторитетному мнению Кони Федор Никифорович безупречно владел трояким призванием стороны защиты: «умилостивить, убедить, растрогать». Интересно также и то, что тексты своих выступлений Плевако заранее никогда не писал, однако по просьбе близких друзей или газетных репортеров уже после суда, если не ленился, записывал свою проговоренную речь. К слову, Плевако первым в Москве начал использовать пишущую машинку фирмы «Ремингтон».
Сила Плевако как оратора заключалась не только в эмоциональности, находчивости и психологизме, но и в красочности слова. Федор Никифорович был мастером на антитезы (например, его фраза о еврее и русском: «Наша мечта - поесть пять раз в день и не затяжелеть, а его - один раз в пять дней и не отощать»), на картинные сравнения (цензура, по словам Плевако: «Это щипцы, снимающие со свечи нагар, не гася ее света и огня»), на эффектные обращения (к присяжным: «Раскройте объятья - я отдаю его (клиента) вам!», к убитому: «Товарищ, мирно спящий в гробе!»). Помимо этого Федор Никифорович был непревзойденным специалистом каскадов громких фраз, красивых образов и остроумных выходок, приходивших неожиданно ему в голову и спасавших его клиентов. О том насколько непредсказуемы были находки Плевако хорошо видно из пары его выступлений, которые стали легендами - в ходе защиты проворовавшегося священника, отрешенного за это от сана, и старушки, похитившей жестяной чайник. В первом случае вина священника в краже церковных денег была твердо доказана. Подсудимый сам признался в ней. Против него были все свидетели, а прокурор выдал убийственную речь. Плевако же, промолчав все судебное следствие и не задав ни одного вопроса свидетелям, заключил со своим приятелем пари о том, что его защитительная речь будет длиться ровно одну минуту, после чего священника оправдают. Когда наступило его время, Федор Никифорович, поднявшись и обратясь к присяжным, произнес характерным задушевным голосом: «Господа присяжные заседатели, подзащитный мой больше двадцати лет отпускал вам ваши грехи. Отпустите их и вы ему разок, люди русские». Священник был оправдан. В деле же о старушке и чайнике, прокурор, заранее желая снизить эффект от защитительной речи адвоката, сам произнес все возможное в пользу старушки (бедная, жалко бабушку, кража пустяковая), однако в конце подчеркнул, что собственность священна и неприкосновенна, «поскольку ею держится благоустройство России». Выступавший после него Федор Никифорович заметил: «Много испытаний и бед пришлось претерпеть нашей стране за ее тысячелетнее существование. И татары ее терзали, и половцы, и поляки, и печенеги. Двунадесять языков на нее обрушились и захватили Москву. Все преодолела, все вытерпела Россия, только росла и крепла от испытаний. Но ныне..., ныне старушка похитила жестяной чайник ценой в тридцать копеек. Этого страна, конечно, не сможет выдержать и погибнет от этого». Нет смысла говорить, что старушку также оправдали.
За каждой из побед Плевако в суде стояла не одна только природная одаренность, но и тщательная подготовка, всесторонний разбор доказательств обвинения, глубокое исследование обстоятельств дела, а также показаний свидетелей и подсудимых. Нередко уголовные процессы с участием Федора Никифоровича обретали общероссийский резонанс. Одним из них явился «Митрофаньевский процесс» - суд над игуменьей Серпуховского монастыря, вызвавший интерес даже за границей. Митрофания - она же в миру баронесса Прасковья Розен - была дочерью героя Отечественной войны, генерал-адъютанта Григория Розена. Будучи фрейлиной царского двора в 1854 она постриглась в монахини и владычествовала в Серпуховском монастыре с 1861 года. За последующий десять лет игуменья, опираясь на близость ко двору и свои связи, наворовала посредством подлогов и мошенничества свыше семисот тысяч рублей. Следствие по этому делу начал в Петербурге Анатолий Кони, бывший в то время прокурором Петербургского окружного суда, а судил ее в октябре 1874 Московский окружной суд. Плевако блеснул в непривычной для себя роли поверенного потерпевших, став на процессе главным обвинителем, как игуменьи, так и ее подручных. Опровергнув аргументы защиты, подтвердив выводы следствия, он произнес: «Путник, шагающий мимо высоких оград владычного монастыря, крестится и полагает, что шествует мимо Божьего дома, а ведь в доме этом звон утренний подымал настоятельницу не на молитвы, а на дела темные! Вместо молящегося люда аферисты там, вместо подвигов добра - подготовка к ложным показаниям, вместо храма - биржа, вместо молитвы - упражнения по составлению векселей, вот что таилось за стенами… Выше, выше сооружайте ограды, вверенной вам общине, дабы миру не было зримо дел, творимых под покровом обители и рясы!» Игуменья Митрофания была признана виновной в мошенничестве и отправилась в ссылку в Сибирь.
Пожалуй, самый большой общественный резонанс из всех процессов с участием Федора Никифоровича вызвало дело Саввы Мамонтова в июле 1900. Савва Иванович был промышленным магнатом, главным акционером железнодорожной компаний, одним из самых известных в России меценатов. Его имение «Абрамцево» в 1870-1890-ых годах являлось важным центром художественной жизни. Здесь работали и встречались Илья Репин, Василий Поленов, Василий Суриков, Валентин Серов, Виктор Васнецов, Константин Станиславский. В 1885 Мамонтов на свои средства основал в Москве русскую оперу, где блистали Надежда Забела-Врубель, Владимир Лосский, Федор Шаляпин. Осенью 1899 российская общественность оказалась шокирована об аресте Мамонтова, его брата и двух сыновей по обвинению в хищении и присвоении шести миллионов рублей из денежных средств, выделенных на строительство Московско-Ярославско-Архангельской железной дороги.
Процесс по этому делу вел председатель столичного окружного суда, авторитетный юрист Давыдов. Обвинителем выступил известный государственный деятель Павел Курлов, будущий глава Отдельного корпуса жандармов. Защищать Савву Мамонтова был приглашен Плевако, а его родных защищали еще три корифея русской адвокатуры: Карабчевский, Шубинский и Маклаков. Центральным событием процесса явилась защитительная речь Федора Никифоровича. Наметанным взглядом он быстро установил слабые места обвинения и рассказал присяжным, сколь патриотичен и грандиозен был замысел его подзащитного построить железную дорогу до Вятки с целью «оживить Север», и как вследствие неудачного выбора исполнителей щедро финансированная операция обернулась убытками, а сам Мамонтов при этом разорился. Плевако говорил: «Рассудите, что тут было? Преступление или ошибка расчета? Намерение причинить вред Ярославской дороге или желание спасти ее интересы? Горе побежденным! Однако пусть эту мерзкую фразу повторяют язычники. А мы скажем: «Пощады несчастным!». Решением суда факт растраты признавался, однако все подсудимые оказались оправданы.
Сам Федор Никифорович разъяснял секреты своих успехов в качестве защитника довольно просто. Первым из них он называл чувство ответственности перед своим клиентом. Плевако говорил: «Между положением защитника и прокурора громадная разница. За спиной прокурора стоит холодный, молчаливый и незыблемый закон, а за защитником - живые люди. Полагаясь на нас, они залазят на плечи и страшно оступиться с такой ношей!». Вторым секретом Федора Никифоровича было потрясающее умение оказывать влияние на присяжных заседателей. Он так объяснял это Сурикову: «Василий Иванович, ведь ты, когда пишешь портреты, стараешься заглянуть в душу, позирующего тебе человека. Вот и я пытаюсь проникнуть взором в душу каждого присяжного и произношу свою речь так, чтоб она долетела до их сознания».
Был ли адвокат всегда уверен в безвинности подзащитных? Разумеется, нет. В 1890 году, произнося защитительную речь по делу Александры Максименко, которую обвиняли в отравлении своего мужа, Плевако сказал прямо: «Если спросить меня, убежден ли я в неповинности ее, я не скажу «да». Обманывать не хочу. Но я не убежден и в виновности ее. А когда необходимо выбирать между смертью и жизнью, то сомнения все должны разрешаться в пользу жизни». Впрочем, дел заведомо неправых Федор Никифорович старался избегать. Например, он отказался защищать в суде знаменитую аферистку Софью Блювштейн, более известную как «Сонька - золотая ручка».
Плевако стал единственным корифеем отечественной адвокатуры, ни разу не выступавшим защитником на строго политических процессах, где судились социал-демократы, народовольцы, народники, кадеты, эсеры. Во многом это было связано с тем, что еще в 1872 году карьера и, возможно, жизнь адвоката едва не оборвалась вследствие его якобы политической неблагонадежности. Дело началось с того, что в декабре 1872 генерал-лейтенант Слезкин - глава Московского губернского жандармского управления - доложил управляющему третьим отделением, что в городе обнаружено некое «тайное юридическое общество», образованное с целью «познакомить студентов с революционными идеями», а также «иметь постоянные связи с зарубежными деятелями и изыскивать способы к распространению запрещенных книг». По полученным агентурным данным в общество входили студенты юридического факультета, кандидаты прав, а кроме того присяжные поверенные вместе со своими помощниками. Шеф московской жандармерии докладывал: «Означенное общество в настоящее время имеет до 150 действительных членов… В числе первых идет присяжный поверенный Федор Плевако, заменивший князя Урусова (высланного из Москвы в латышский городок Венден и содержащегося там под надзором полиции)». Спустя семь месяцев в июле 1873 тот же Слезкин писал начальству о том, что «за всеми лицами производится строжайшее наблюдение, и применяются все возможные меры к изысканию данных, служащих ручательством о действиях данного юридического общества». В конце концов, данных, «могущих служить ручательством», найти не вышло, и дело о «тайном обществе» было закрыто. Однако с этого самого времени и вплоть до 1905 года Плевако подчеркнуто избегал политики.
Лишь несколько раз Федор Никифорович согласился выступить на процессах по делам о «беспорядках», имеющих политический оттенок. Одним из первых таких разбирательств стало наделавшее много шума «Люторичское дело», в котором Плевако вступился за бунтовщиков-крестьян. Весной 1879 крестьяне деревеньки Люторичи, расположенной в Тульской губернии, подняли бунт против своего помещика. Войска подавили мятеж, а его «подстрекатели» в количестве тридцати четырех человек предстали перед судом с обвинением «сопротивление властям». Московская судебная палата рассмотрела дело в конце 1880, а Плевако на себя взял не только защиту обвиняемых, но и все расходы по их содержанию во время процесса, длившегося, к слову, три недели. Его защитительная речь фактически явилась обвинением господствовавшего в стране режима. Назвав положение крестьян после реформ 1861 года «полуголодной свободой», Федор Никифорович фактами и цифрами доказал, что в Люторичах жить стало в несколько раз тяжелее дореформенного рабства. Громадные поборы с крестьян до такой степени возмутили его, что он заявил помещику и его управляющему: «Мне стыдно за время, в котором подобные люди живут и действуют!». Касательно обвинений его подзащитных Плевако произнес: «Действительно, они и зачинщики, они и подстрекатели, они и причина всех причин. Бесправие, безысходная бедность, беззастенчивая эксплуатация, которая довела до разорения всех и вся - вот они, подстрекатели». После речи адвоката, по свидетельствам очевидцев, в зале суда «раздавались рукоплескания потрясенных и взволнованных слушателей». Тридцать из тридцати четырех подсудимых суд был вынужден оправдать, а Анатолий Кони говорил, что выступление Плевако стало «по настроениям и условиям тех лет гражданским подвигом».
Столь же громко и смело выступил Федор Никифорович на процессе по делу участников стачки работников Никольской мануфактуры, принадлежащей фабрикантам Морозовым и расположенной у села Орехово (в настоящее время город Орехово-Зуево). Эта забастовка, прошедшая в январе 1885, стала самой крупной и самой организованной в России к тому времени - участие в ней приняли свыше восьми тысяч человек. Стачка лишь отчасти носила политический характер - возглавляли ее рабочие-революционеры Моисеенко и Волков, а среди прочих требований предъявленных губернатору бастующими была «полная смена договоров найма согласно изданному государственному закону». Защиту главных обвиняемых - Волкова и Моисеенко - взял на себя Плевако. Как и в Люторичском деле, Федор Никифорович оправдывал подсудимых, рассматривая их поступки как вынужденный протест против произвола со стороны хозяев мануфактуры. Он подчеркивал: «Вопреки условиям договора и общему закону фабричная администрация не отапливает заведение, и рабочие находятся у станков при десяти-пятнадцати градусах холода. Вправе они отказаться от работы и уйти при наличии беззаконных деяний хозяина, или вынуждены замерзнуть геройскою смертью? Рассчитывает их хозяин также по произволу, а не по установленному договором условию. Должны рабочие терпеть и молчать или могут отказаться от работы в таком случае? Полагаю, закон должен охранять интересы хозяев против беззакония работников, а не брать хозяев под свою защиту во всяческом их произволе». Обрисовав положение трудящихся Никольской мануфактуры, Плевако, согласно воспоминаниям очевидцев, произнес следующие слова: «Если, читая книжку о чернокожих рабах, мы возмущаемся, то сейчас перед нами белые рабы». Суд был убежден доводами защиты. Признанные вожаки стачки Волков и Моисеенко получили лишь три месяца ареста.
Нередко в судебных речах Плевако затрагивал злободневные социальные вопросы. В конце 1897, когда столичная судебная палата разбирала дело работников фабрики Коншина в городе Серпухове, взбунтовавшихся против безжалостных условий труда и разгромивших квартиры фабричного начальства, Плевако поставил и разъяснил юридически и политически крайне важный вопрос о соотношении коллективной и личной ответственности за какое-либо правонарушение. Он говорил: «Совершено беззаконное и нетерпимое деяние, и преступником являлась толпа. Но судят не толпу, а несколько десятков замеченных в ней лиц: толпа ушла… Толпа - это здание, в котором люди - кирпичи. Из одних кирпичей строится и тюрьма - жилище отверженных, и храм Богу. Находиться в толпе еще не означает носить ее инстинкты. В толпе богомольцев скрываются и карманники. Толпа заражает. Лица, входящие в нее, заражаются. Бить их - все равно, что уничтожать эпидемию, бичуя заболевших».
Любопытно, что в отличие от коллег, старающихся превратить судебный процесс в урок политграмоты или школу политического воспитания, Федор Никифорович всегда старался обходить политические аспекты стороной, и в его защите, как правило, звучали общечеловеческие нотки. Обращаясь к привилегированным классам, Плевако взывал к их чувству человеколюбия, убеждая протянуть малоимущим руку помощи. Мировоззрение Федора Никифоровича можно было охарактеризовать как гуманистичекое, он неоднократно подчеркивал, что «жизнь одного единственного человека дороже любых реформ». И добавлял при этом: «Пред судом равны все, будь ты хоть генералиссимусом!». Любопытно, что при этом Плевако находил естественным и необходимым для правосудия чувство милосердия: «Слово закона походит на угрозы матери своим детям. Покуда вины нет, обещает она непокорному сыну жестокую кару, однако едва наступает необходимость наказания, материнская любовь ищет повод смягчить меру казни».
Почти сорок лет Федор Никифорович отдал правозащитной деятельности. И правовая элита, и специалисты, и обыватели ценили Плевако выше всех прочих адвокатов, называя «великим оратором», «гением слова», «митрополитом адвокатуры». Сама фамилия его превратилась в нарицательную, означающую адвоката экстра-класса. Без всякой иронии в те годы писали и говорили: «Найди себе другого «Плеваку». В знак признания заслуг Федор Никифорович был удостоен потомственного дворянства, титула действительного статского советника (четвертый класс, по табели о рангах соответствующий званию генерал-майора) и аудиенции у императора. Жил Фёдор Никифорович в двухэтажном особняке на Новинском бульваре, и этот адрес знала вся страна. В его личности удивительным образом сочетались размашистость и цельность, разгульное барство (например, когда Плевако организовывал гомерические пирушки на зафрахтованных им пароходах) и житейская простота. Несмотря на то, что гонорары и слава укрепили его материальное положение, деньги никогда не имели над адвокатом власти. Современник писал: «Федор Никифорович не скрывал своей состоятельности и не стыдился богатства. Он считал, что главное поступать по-божески и не отказывать в помощи тем, кто по-настоящему в ней нуждается». Много дел Плевако вел не только бесплатно, но и помогая материально своим малоимущим обвиняемым. Кроме того Плевако смолоду и до самой смерти был непременным членом всевозможных благотворительных учреждений, например «Общества призрения, обучения и воспитания слепых детей» или «Комитета по устройству студенческих общежитий». Тем не менее, добрый к беднякам, он буквально выбивал из купцов огромные гонорары, при этом требуя авансы. Когда же его спрашивали, что это такое «аванс», Плевако отвечал: «Задаток знаешь? Так вот аванс - тот же задаток, однако больше в три раза».
Интересной чертой характера Плевако являлась его снисходительность к своим злопыхателям и завистникам. На застолье по случаю двадцатипятилетия его адвокатской карьеры Федор Никифорович приветливо чокался, как с друзьями, так и с приглашенными известными недругами. На удивление супруги Федор Никифорович со своим обычным добродушием заметил: «Что ж мне судить их, что ли?». Вызывают уважение культурные запросы адвоката - у него была собрана огромная по тем временам библиотека. Презирая беллетристику, Федор Никифорович увлекался литературой по праву, истории и философии. Среди его любимых авторов были Кант, Гегель, Ницше, Куно Фишер и Георг Еллинек. Современник писал: «У Плевако было какое-то заботливое и нежное отношение к книгам - и своим, и чужим. Он сравнивал их с детьми. Его возмущал вид порванной, загрязненной или растрепанной книги. Он говорил, что наряду с существующим «Обществом защиты детей от жестокого обращения», необходимо организовать «Общество защиты книг от жестокого обращения». Несмотря на то, что Плевако весьма дорожил своими фолиантами, он свободно давал их почитать своим друзьям и просто знакомым. Этим он разительно отличался от «книжного скупца» философа Розанова, говорившего: «Книга - это не девка, незачем ей ходить по рукам».
Знаменитый оратор был не просто начитан, с юных лет он отличался необыкновенной памятью, наблюдательностью и чувством юмора, что находило выражение в каскадах каламбуров, острот, пародий и эпиграмм, сочиняемых им как в прозе, так и в стихах. Долгое время фельетоны Федора Никифоровича печатались в газете «Московский листок» писателя Николая Пастухова, а в 1885 Плевако организовал в Москве издание своей собственной газеты под названием «Жизнь», однако это предприятие «успеха не имело и прекратилось на десятом месяце». Широк был круг личных связей адвоката. Он был хорошо знаком с Тургеневым и Щедриным, Врубелем, и Станиславским, Ермоловой и Шаляпиным, а также многими другими признанными художниками, литераторами и артистами. По воспоминаниям Павла Россиева, нередко к Плевако направлял мужиков Лев Толстой со словами: «Федор, обели несчастных». Адвокат обожал все виды зрелищ от элитных спектаклей и до народных гуляний, однако наибольшее удовольствие доставляло ему посещение двух столичных «храмов искусств» - русской оперы Мамонтова и Художественного театра Немировича-Данченко и Станиславского. Также Плевако любил путешествовать и объездил всю Россию от Урала до Варшавы, выступая на судебных процессах в маленьких и больших городах страны.
Первая супруга Плевако работала народной учительницей, и брак с ней оказался весьма неудачен. Вскоре после рождения сына в 1877 они расстались. А в 1879 за юридической помощью к Плевако обратилась некая Мария Демидова, супруга известного льяного промышленника. Через несколько месяцев после знакомства с адвокатом она, забрав пятерых детей, переехала к Федору Никифоровичу на Новинский бульвар. Все ее ребятишки стали для Плевако родными, впоследствии у них родилось еще трое - дочь Варвара и два сына. Бракоразводный процесс Марии Демидовой против Василия Демидова растянулся на целых двадцать лет, поскольку фабрикант наотрез отказывался отпустить бывшую супругу. С Марией Андреевной же Федор Никифорович прожил в ладу и согласии всю оставшуюся жизнь. Примечательно, что сын Плевако от первого брака и один из сыновей от второго впоследствии стали известными адвокатами и работали в Москве. Еще более примечательно то, что их обоих звали Сергеями.
Необходимо отметить еще одну черту Федора Никифоровича - всю жизнь адвокат был глубоко верующим человеком и под веру свою даже подводил научное обоснование. Плевако регулярно посещал церковь, соблюдал религиозные обряды, любил крестить детей всех рангов и сословий, служил церковным старостой в Успенском соборе, а также пытался примирить «богохульную» позицию Льва Толстого с положениями официальной церкви. А в 1904 Федор Никифорович даже встречался с папой римским и имел с ним долгий разговор о единстве Бога и о том, что православные и католики обязаны жить в добром согласии.
В конце своей жизни, а именно в 1905 году, Федор Никифорович обратился к теме политики. Царский манифест 17 октября внушил ему иллюзию приближения гражданских свобод в России, и он с юношеским задором устремился во власть. Первым делом Плевако попросил известного политического деятеля и адвоката Василия Маклакова внести его в списки членов Конституционно-демократической партии. Однако тот отказался, резонно заметив, что «партийная дисциплина и Плевако понятия несовместимые». Тогда Федор Никифорович вступил в ряды октябристов. Впоследствии он был избран в третью Государственную Думу, в которой с наивностью политика-дилетанта призывал коллег заменить «слова о свободе словами свободных рабочих» (эта выступление в Думе, состоявшееся в ноябре 1907, стало его первым и последним). Известно также, что Плевако продумывал проект трансформации царского титула, дабы подчеркнуть, что Николай отныне не абсолютный русский царь, а ограниченный монарх. Однако заявлять об этом с думской трибуны он не рискнул.
Плевако скончался в Москве 5 января 1909 от инфаркта на шестьдесят седьмом году жизни. На смерть выдающегося оратора откликнулась вся Россия, однако особенно скорбили москвичи, многие из которых считали, что в столице России есть пять главных достопримечательностей: Третьяковская галерея, Собор Василия Блаженного, «Царь-пушка», «Царь-колокол» и Федор Плевако. Газета «Раннее утро» выразилась предельно кратко и точно: «Россия потеряла своего Цицерона». Похоронен Федор Никифорович был при колоссальном стечении народа всех состояний и слоев на кладбище Скорбященского монастыря. Однако в тридцатые годы прошлого века останки Плевако перезахоронили на Ваганьковском кладбище.
По материалам книги Н.А. Троицкого «Корифеи российской адвокатуры» и сайта pravo.ru.
(1842-1908)
За всю историю отечественной адвокатуры не было в ней человека более популярного, чем Ф.Н. Плевако. И специалисты, правоведы, и обы-ватели, простонародье, ценили его выше всех адвокатов как «великого оратора», «гения слова» , «старшого богатыря» и даже «митрополита ад-вокатуры» . Сама фамилия его стала нарицательной как синоним адво-ката экстра-класса: «Найду другого «Плеваку», — говорили и писали без всякой иронии» . Письма же к нему адресовали так: «Москва. Новин-ский бульвар, собственный дом. Главному защитнику Плеваке» . Или просто: «Москва. Федору Никифоровичу» .
Литература о Плевако более обширна, чем о ком-либо другом из российских адвокатов , издан капитальный двухтомник его речей , но до сих пор его жизнь, деятельность и творческое наследие должным образом еще не изучены. Почти не рассматриваются, к примеру, его выступления на политических процессах. О том, как плохо знают Пле-вако даже его почитатели из специалистов — сегодняшние юристы, адвокаты, говорит такой факт. В 1993 г. издан 30-тысячным тиражом сборник его речей . В аннотации к сборнику (С. 4) указано, что печа-таются «речи, в основном ранее не публиковавшиеся», а ответствен-ный редактор сборника, известный адвокат Генри Резник специально отметил знаменитую речь Плевако на процессе крестьян с. Лютори- чи: «В силу того, что эта речь была опубликована, она не включена в настоящий сборник» (С. 25). Между тем все 39 речей, включенных «в настоящий сборник», были опубликованы в двухтомнике 1909—1910 гг. и теперь перепечатаны оттуда без ссылки на двухтомник . Кстати, Г.М. Резник ссылается в сборнике 1993 г. (неоднократно: С. 33, 37, 39) на краткий очерк о Плевако из книги В.И. Смолярчука «Гиганты и ча-родеи слова», не зная о том, что Смолярчук опубликовал отдельную (вдесятеро большего объема) книгу «Адвокат Федор Плевако»...
Родился Федор Никифорович 13 апреля 1842 г. в г. Троицке Орен-бургской губернии (ныне Челябинская область). Его родителями были член Троицкой таможни надворный советник Василий Иванович Пле-вах из украинских дворян и крепостная киргизка Екатерина Степа-нова, с которой Плевак прижил четырех детей (двое из них умерли младенцами), но брака не узаконил . Как незаконнорожденный буду-щий «гений слова» получил отчество и фамилию (Никифоров ) по име-ни Никифора — крестного отца своего старшего брата. Позднее, в университет он поступал с отцовской фамилией Плевак, а по оконча-нии университета добавил к ней букву «о», причем называл себя с уда-рением на этой букве: Плевако . «Итак, — заключает по этому поводу биограф Федора Никифоровича, — у него три фамилии: Никифоров, Плевак и Плевако» .
В Троицке с 1849 до 1851 г. Федор учился в приходской и уездной школах, а летом 1851 г. семья Плевако переселилась в Москву. Здесь
Федор Никифорович отныне проживет всю жизнь. С осени 1851 г. он начал учиться в коммерческом училище.
Московское коммерческое училище на Остоженке считалось тогда образцовым. Даже особы царской фамилии по приезде в Москву удос-таивали его своим посещением, проверяли знания учеников. Федор и его старший брат Дормидонт учились отлично, их имена к концу пер-вого же года учебы были занесены на «золотую доску» училища. В на-чале второго года училище посетил принц Петр Ольденбургский (пле-мянник двух царей — Александра I и Николая I). Ему рассказали об умении Федора решать устно и быстро сложные задачи с трехзначны-ми и даже четырехзначными цифрами. Принц сам проверил способно-сти мальчика, похвалил его и через два дня прислал ему в подарок кон-феты. А под новый, 1853 год Василию Плеваку объявили, что его сыновья исключаются из училища как... незаконнорожденные. Это уни-жение Федор Никифорович запомнит на всю жизнь. Много лет спустя он так напишет об этом в автобиографии: «Нас объявляли недостойны-ми той самой школы, которая хвалила нас за успехи и выставляла на-показ исключительную способность одного из нас в математике. Про-сти их Боже! Вот уж и впрямь не ведали, что творили эти узколобые лбы, совершая человеческое жертвоприношение» .
Осенью 1853 г., благодаря долгим отцовским хлопотам, Федор и Дормидонт были приняты в 1-ю Московскую гимназию на Пречистен-ке — сразу в 3-й класс. За время учебы в гимназии Федор похоронил отца и брата, не дожившего до 20 лет. Весной 1859 г. он окончил гим-назию и поступил на юридический факультет Московского универси-тета. Будучи студентом, он перевел на русский язык «Курс римского гражданского права» выдающегося немецкого юриста Георга Фридри-ха Пухты (1798—1846), который позднее он основательно прокоммен-тирует и издаст за собственный счет .
В 1864 г. Плевако окончил университет с дипломом кандидата прав, но не сразу определился с призванием адвоката: больше полугода он служил на общественных началах стажером в Московском окружном суде, ожидая подходящей вакансии. Когда же, согласно «Положению» 19 октября 1865 г. о введении в действие Судебных уставов 1864 г. , с весны 1866 г. начала формироваться в России присяжная адвокатура, Плевако одним из первых в Москве записался помощником к присяжному поверенному М.И. Доброхотову . В звании помощника он успел проявить себя как одареннейший адвокат на уголовных процессах, сре-ди которых выделялось дело Алексея Маруева 30 января 1868 г. в Мос-ковском окружном суде. Мару ев обвинялся в двух подлогах. Защищал его Плевако. Федор Никифорович проиграл это дело (его подзащитный был признан виновным и сослан в Сибирь), но защитительная речь Плевако — первая по времени из сохранившихся его речей — уже показала его силу, особенно в анализе свидетельских оговоров. «Они, — говорил Плевако о свидетелях по делу Маруева, — не отзываются за- памятованием, а один приписывает другому то, что другой, со своей стороны, приписывает первому. <...> Так сильны противоречия, так взаимно уничтожают они себя в самых существенных вопросах! Какая может быть к ним вера?!»
19 сентября 1870 г. Плевако был принят в присяжные поверенные округа Московской судебной палаты , и с этого времени началось его блистательное восхождение к вершинам адвокатской славы. Правда, уже через два года оно едва не оборвалось из-за его политической «не-благонадежности».
Дело в том, что 8 декабря 1872 г. начальник Московского губерн-ского жандармского управления генерал-лейтенант И.А. Слезкин до-ложил управляющему III отделением А.Ф. Шульцу, что в Москве рас-крыто «тайное юридическое общество», созданное с целью «знакомить студентов и вообще молодых людей с революционными идеями», «изыскивать способы к печатанию и литографированию запрещенных книг и распространению их, иметь постоянные сношения с загранич-ными деятелями». По агентурным данным, в обществе состояли «чем- либо заявившие себя в пользу социализма студенты юридического факультета всех курсов, окончившие курс и оставленные при универ-ситете, кандидаты прав, присяжные поверенные и их помощники, а также и бывшие студенты, преимущественно юристы». «В настоящее время, — докладывал шеф московской жандармерии, — означенное общество имеет уже действительных членов до 150 человек. <...> В чис-ле главных называют присяжного поверенного Федора Никифоровича Плевако, заменившего между студентами значение князя Александра Урусова», и далее перечислен еще ряд имен: С.А. Клячко и Н.П. Цакни (члены революционно-народнического общества т. н. «чайковцев») , В.А. Гольцев (позднее видный общественный деятель, редактор журна-ла «Русская мысль»), В.А. Вагнер (впоследствии крупный ученый-психо-лог) и др.
Спустя семь месяцев, 16 июля 1873 г. И.А. Слезкин уведомил А.Ф. Шульца о том, что «за поименованными лицами производится са-мое строгое наблюдение и употребляются всевозможные меры к полу-чению фактических данных, кои бы могли служить ручательством к об-наружению как лиц, составлявших тайное юридическое общество, так равно и всех его действий» . В итоге, таких данных, «кои бы могли слу-жить ручательством...», изыскать не удалось. Дело о «тайном юридиче-ском обществе» было закрыто, его предполагаемые «действительные члены» избежали репрессий. Но Плевако с этого времени вплоть до 1905 г. подчеркнуто сторонился «политики». Единственный из корифе-ев отечественной адвокатуры, он ни разу не выступал защитником на политических в строгом смысле этого слова процессах, где судились народники, народовольцы, социал-демократы, эсеры, кадеты и т. д. Со-гласился он выступить несколько раз лишь на процессах по делам о разного рода «беспорядках» с политическим оттенком.
Первым по времени из таких дел стало для него т. н. «охотноряд- ское дело» 1878 г. о студентах, которые устроили в Москве демон-страцию солидарности с политическими ссыльными, были избиты полицией и преданы суду за то, что сопротивлялись избиению. Власти квалифицировали дело как «уличные беспорядки» и доверили его ми-ровому суду. Политический характер дела вскрыли на суде обвиняемые (среди них был известный народник, с 1881г. агент Исполнительного комитета «Народной воли» П.В. Гортынский). Их активно поддержал присяжный поверенный Н.П. Шубинский — сотоварищ Плевако по адвокатуре и (в будущем) по членству в партию октябристов . Федор Никифорович выступал на этом процессе осторожно , зная о том, что не только зал суда (в Сухаревой башне), но и подходы к нему заполне-ны молодыми радикалами, а переулки и улицы окрест башни — отря-дами полиции . Гораздо смелее вступился он за бунтовщиков-крестьян в нашумевшем люторичском деле.
Весной 1879 г. крестьяне с. Люторичи Тульской губернии взбунтова-лись против их закабаления соседним помещиком, московским губерн-ским предводителем дворянства в 1875—1883 гг. графом А.В. Бобрин-ским (из рода Бобринских — от внебрачного сына императрицы Екатерины II А.Г. Бобринского). Бунт был подавлен силами войск, а его «подстрекатели» (34 человек) преданы суду по обвинению в «сопротив-лении властям». Дело рассматривала Московская судебная палата с со-словными представителями в декабре 1880 г. Плевако взял на себя не только защиту всех обвиняемых, но и «расходы по их содержанию в те-чение трех недель процесса» . Его защитительная речь (1.300—312) про-звучала грозным обвинением власть имущих в России. Определив поло-жение крестьян после реформы 1861 г. как «полуголодную свободу», Плевако с цифрами и фактами в руках показал, что в Люторичах жизнь стала «во сто крат тяжелее дореформенного рабства». Хищнические по-боры с крестьян так возмутили его, что он воскликнул по адресу гр. Боб-ринского и его управляющего А.К. Фишера: «Стыдно за время, в которое живут и действуют подобные люди!» Что касается обвинения его подза-щитных в подстрекательстве бунта, то Плевако заявил судьям: «Подстре-катели были. Я нашел их и с головой выдаю вашему правосудию. Они — подстрекатели, они — зачинщики, они — причина всех причин. Бедность безысходная, <...> бесправие, беззастенчивая эксплуатация, всех и вся доводящая до разорения, — вот они, подстрекатели!»
После речи Плевако в зале суда, по свидетельству очевидца, «греме-ли рукоплескания взволнованных, потрясенных слушателей» . Суд вы-нужден был оправдать 30 из 34 подсудимых . А.Ф. Кони считал, что выступление Плевако на этом процессе «было по условиям и настрое-ниям того времени гражданским подвигом» .
Столь же смело и громко выступил Плевако на процессе по делу уча-стников исторической морозовской стачки рабочих Никольской ману-фактуры фабрикантов Морозовых у ст. Орехово (ныне г. Орехово-Зуево Московской обл.). Эта самая крупная и самая организованная по тому времени стачка («страшный бунт десятка тысяч рабочих») с 7 по 17 ян-варя 1885 г. носила отчасти политический характер: руководили ею ра-бочие-революционеры П.А. Моисеенко, B . C . Волков и А.И. Иванов, а в числе требований стачечников, предъявленных губернатору, было «пол-ное изменение условий найма между хозяином и рабочими по изданно-му государственному закону» 1 . Дело о стачке слушалось на двух процес-сах во Владимирском окружном суде в феврале (о 17 обвиняемых) и в мае 1886 г. (еще о 33). На первом из них, 7 февраля, главных обвиняе-мых — Моисеенко и Волкова — защищал Плевако.
И на этот раз, как в люторичском деле, Плевако оправдывал подсуди-мых, квалифицируя их действия как вынужденный «протест против бес-правного произвола» со стороны эксплуататоров народа и стоявших за ними властей (1.322—325). «Фабричная администрация, вопреки обще-му закону и условиям договора, — подчеркивал Федор Никифорович, — не отапливает заведение, рабочие стоят у станка при 10—15 градусах холода. Вправе они уйти, отказаться от работы при наличии беззаконных действий хозяина, или должны замерзнуть геройской смертью? Хозяин, вопреки договору, дает не условленные работы, рассчитывает не по усло-вию, а по произволу. Должны ли рабочие тупо молчать, или могут врозь и вместе отказаться от работы не по условию? Полагаю, что закон охра-няет законные интересы хозяина, против беззакония рабочих, а не берет под свою защиту всяческого хозяина во всяческом его произволе». Обри-совав положение морозовских рабочих, Плевако, по воспоминаниям П.А. Моисеенко, произнес слова, которые не вошли в опубликованный текст его речи: «Если мы, читая книгу о чернокожих невольниках, возму-щаемся, то теперь перед нами — белые невольники» .
Суд внял доводам защиты. Даже Моисеенко и Волков, признанные вожаки стачки, были приговорены лишь к 3 месяцам ареста, 13 чело-век — к аресту от 7 дней до 3 недель, и 2 оправданы.
В дальнейшем Плевако еще, по крайней мере, дважды выступал за-щитником по делам о рабочих «беспорядках» с политическим оттен-ком. В декабре 1897 г. Московская судебная палата рассматривала дело о рабочих фабрики Н.Н. Коншина в г. Серпухове. Сотни их взбунтова-лись против бесчеловечных условий труда и быта, стали громить квар-тиры фабричного начальства и были усмирены лишь вооруженной си-лой, оказав при этом «сопротивление властям». Плевако здесь поставил и разъяснил очень важный — как юридически, так и политически — вопрос о соотношении личной и коллективной ответственности за под-судное дело (I. 331—332). «Совершено деяние беззаконное и нетерпи-мое, — говорил он. — Преступником была толпа. А судят не толпу. Су-дят несколько десятков лиц, замеченных в толпе. Это тоже своего рода толпа, но уже другая, малая; ту образовали массовые инстинкты, эту — следователи и обвинители. <...> Все сказуемые, наиболее хлестко выри-совывающие буйство массы приписывали толпе, скопищу, а не отдель-ным людям. А судим отдельных лиц: толпа ушла». И далее: «Толпа — здание, люди — кирпичи. Из одних и тех же кирпичей созидается и храм Богу, и тюрьма — жилище отверженных. <...> Толпа заражает. Лица, в нее входящие, заражаются. Бить их — это все равно что бороть-ся с эпидемией, бичуя больных». .
В итоге суд и по этому делу определил подсудимым минимальные наказания .
Что касается процесса в Московской судебной палате весной 1904 г. по делу о рабочих «беспорядках» на подмосковной мануфактуре А.И. Ба-ранова, то в этот процесс вносили политический смысл защитники, ли-беральные представители т. н. «молодой адвокатуры»: Н.К. Муравьев, Н.В. Тесленко, В.А. Маклаков, М.Л. Мандельштам. Вместе с ними, по их приглашению, защищал рабочих Плевако. В отличие от своих коллег, ко-торые старались обратить судебный процесс в «первый урок политгра-моты, школу политического воспитания» подсудимых , Федор Никифо-рович выступал, по воспоминаниям Мандельштама , вне политики: «В его защите звучали не революционные, а «общечеловеческие» ноты. Он обращался не к рабочим массам. Он говорил с классами привилегиро-ванными, убеждая их из чувства человеколюбия протянуть руку помощи рабочим» . Мандельштаму показалось даже, что Плевако выступил вяло, что он «утомлен жизнью», «орел уже не расправляет своих крыльев» . Но уже через шесть месяцев, в ноябре того же 1904 г., Плевако вновь смот-релся «орлом».
На этот раз процесс был явно политическим, хотя и без участия ка-ких-либо революционеров, а само обвинение формулировалось апо-литично: «клевета». В качестве обвиняемого перед Петербургским окружным судом предстал редактор-издатель газеты «Гражданин» кн. В.П. Меьцерский, истцом был орловский предводитель дворян-ства М.А. Стахович (близкий друг семьи А.Н. Толстого), а Плевако и В.А. Маклаков выступили в роли поверенных истца, поддерживая об-винение. Суть дела заключалась в том, что Стахович написал статью с протестом против истязаний, которым полиция подвергала свои жер-твы. Эта статья, после того как ее отклонили три подцензурных орга-на, была напечатана в нелегальном журнале П.Б. Струве «Освобожде-ние» с оговоркой: «без согласия автора». Мещерский в № 28 своей газеты за 1904 г. злобно обругал Стаховича и его «намерение бросить обвинительную тень на административную власть», «сотрудничество с революционным изданием», «оскорбление патриотизма, почти рав-ное писанию сочувственных телеграмм японскому правительству» (в то время шла Русско-японская война).
Плевако буквально восславил Стаховича, подчеркнув «всю чистоту намерений, всю правоту средств, которыми истинный гражданин сво-ей страны борется с неправдой, оглашает ее и призывает к исправле-нию», и осудил (солидарно с Маклаковым) «полицейское понимание жизни» у Мещерского. Стаховича он причислил к «лагерю» Минина и Пожарского, а Мещерского — к «лагерю» Малюты Скуратова (I. 289). Заключительные слова Плевако о Мещерском прозвучали как анафема: «Он не докажет честно мыслящим русским людям, что нежелательны Стаховичи и нужны только Мещерские. Довольно с нас и одного Ме-щерского, дай Бог побольше таких людей, как Стахович! <...> Оцените же поступок князя, и к его древнему имени пусть добавят имя клевет-ника!» (I. 293).
Речи Плевако и Маклакова по делу Мещерского произвели тем большее впечатление, что вся образованная Россия знала тогда: князь Мещерский не просто символизирует крайнюю реакцию, он — при всей одиозности его репутации в обществе 2 — слывет «ментором двух государей» (Александра III и Николая II), которые благоволили к Ме-щерскому и субсидировали его газету как «царский орган», «настоль-ную газету царей» . Суд (надо отдать ему должное) не стал политикан-ствовать: он признал царского «ментора» виновным в клевете и при-говорил его к двухнедельному аресту на гауптвахте .
Выступления Плевако на политических (в той или иной мере) про-цессах позволяют усмотреть в нем «демократа-разночинца» , как назвал его А.Ф. Кони, тем более что сам Федор Никифорович прямо юворил о себе: «Я человек 60-х годов» . Но, думается, В.И. Смолярчук преувеличи-вал, полагая, что не только «по складу своего характера», но и «по сло-жившемуся мировоззрению» Плевако был «глубоким демократом» . Кони имел в виду не мировоззрение Плевако, а его демократически-раз- ночинскую «повадку», отзывчивость и простоту его общения «во всех слоях русского общества» . Мировоззренческий же демократизм Плева-ко был не глубоким, а скорее широким, не столько осознанным, сколь-ко стихийным. Незаконнорожденное дитя от смешанного брака, «изгой», по собственному выражению , он стал действительным стат-ским советником (4-й класс Табели о рангах, соответствующий воин-скому званию генерал-майора), получил доступ в высшие сферы, дружил с такими зубрами из сильных мира, как генеральный контролер Т.И. Фи-липпов («циник по нравственности и подлому подобострастию перед тем, кто мог быть ему полезен») и яростный ненавистник любой демок-ратии обер-прокурор Синода К.П. Победоносцев .
Впрочем, дружба Плевако с Победоносцевым не имела под собой идейной опоры. А.В. Вольский видел собственноручно переписанную Плевако «злую» эпиграмму на Победоносцева:
Победоносцев для Синода,
Обедоносцев при дворе,
Бедоносцев для народа И Доносцев он везде
Победоносцев, со своей стороны, не зря, «когда увидел фотографию Плевако с молодыми адвокатами (из «неблагонадежных». — И. Т.), ска-зал: «Их всех повесить надо, а не фотографировать» .
Сторонясь после дела 1872—1873 гг. о «тайном юридическом обще-стве» и до революции 1905 г. всякой «политики», Плевако ярко про-явил себя не как демократ, а как ГУМАНИСТ. Убежденный в том, что «жизнь одного человека дороже всяких реформ» (II. 9), он ратовал за нелицеприятное правосудие: «Перед судом все равны, хоть генералис-симусом будь!» (1.162). При этом он считал необходимым и естествен-ным для правосудия милосердие: «Слово закона напоминает угрозы матери детям. Пока нет вины, она обещает жестокие кары непокорно-му сыну, но едва настанет необходимость наказания, любовь материн-ского сердца ищет всякого повода смягчить необходимую меру казни» (1.155). Но именно как гуманист и правдолюб обличал он перед судом любые злоупотребления, чинимые ли духовными воротилами «под по-кровом рясы и обители» или «собаками» полицейского сыска под ко-манду властей «Ату его!» (I. 161, 175; II. 63).
Забытый ныне поэт-демократ Леонид Граве (1839—1891) посвя-тил Федору Никифоровичу стихотворение «В толпе глупцов, бездушной и холодной» с такими строками:
Взгляни вокруг: весь мир окован злом,
В сердцах людей вражда царит от века...
Не бойся их! С бестрепетным челом Иди на бой за право человека .
Вернемся к теме политики в жизни и творчестве Плевако. Царский манифест 17 октября 1905 г. внушил ему иллюзию близости в России гражданских свобод. Он с молодым задором устремился в политику: по-просил своего коллегу по адвокатуре В.А. Маклакова «записать» его в Конституционно-демократическую партию. Тот (бывший одним из ос-нователей и лидеров партии) отказался, резонно посчитав, что «Плева-ко и политическая партия, партийная дисциплина — понятия несовме-стные» . Тогда Плевако вступил в партию октябристов. От них он был избран в III Государственную думу, где с наивностью политика-дилетан-та призывал думцев заменить «песни о свободе песнями свободных рабочих, воздвигающих здание права и свободы» (эта речь 20 ноября 1907 г. была первой и последней его думской речью: 1.367—373). Как яв-ствует из воспоминаний Н.П. Карабчевского, Плевако обдумывал даже проект «видоизменения царского титула, чтобы подчеркнуть, что Нико-лай II уже не абсолютный русский царь Божией милостью, а ограничен-ный монарх» , но не рискнул заявить об этом с думской трибуны.
Думский (оказалось, предсмертный) вираж карьеры Плевако озада-чил и огорчил его коллег, учеников, друзей как «недоразумение» . Сего-дня адвокат ГЛ4. Резник пытается оспорить этот факт, ибо, мол, «нет ни-каких (? — Н. Т.) оснований подозревать в неискренности твердого (? — И. Т.) в убеждениях либерала» , каковым был Плевако. Увы, В.А. Макла-ков и Н.П. Карабчевский лучше Резника знали, что именно твердости в политических убеждениях Федора Никифоровича недоставало.
Итак, в сфере политики Плевако не стал сколько-нибудь заметной величиной, но в сфере права он воистину велик как адвокат и судебный оратор, блиставший на процессах главным образом по уголовным (от-части и по гражданским) делам.
Оратором Плевако был уникальным, — что называется, от Бога. Правда, в отличие от иных корифеев присяжной адвокатуры — таких как А.И. Урусов, С.А. Андреевский, Н.П. Карабчевский (но под стать В Д. СпасОвичу и П. А. Александрову), он был беден внешними данны-ми. «Скуластое, угловатое лицо калмыцкого типа с широко расстав-ленными глазами, с непослушными прядями длинных черных волос могло бы назваться безобразным, если бы его не освещала внутренняя красота, сквозившая то в общем одушевленном выражении, то в доб-рой, львиной улыбке, то в огне и блеске говорящих глаз. Его движения были неровны и подчас неловки; нескладно сидел на нем адвокатский фрак, а пришепетывающий голос шел, казалось, вразрез с его призва-нием оратора. Но в этом голосе звучали ноты такой силы и страсти, что он захватывал слушателя и покорял его себе» .
Секрет ораторской неотразимости Плевако был не только и даже не столько в мастерстве слова. «Главная его сила заключалась в интонациях, в неодолимой, прямо колдовской заразительности чувства, которым он умел зажечь слушателя. Поэтому речи его на бумаге и в отдаленной мере не передают их потрясающей силы» . Очень подходит к Плевако афо-ризм Ф. Ларошфуко: «В звуке голоса, в глазах и во всем облике говоряще-го заключено не меньше красноречия, чем в выборе слов» .
Тексты своих речей Плевако никогда заранее не писал, но после суда по просьбе газетных репортеров или близких друзей иной раз («когда не ленился») записывал уже произнесенную речь. Эти записи принад-лежат, бесспорно, к лучшим текстам в его двухтомнике .
Плевако-оратор был подчеркнуто (как никто другой) индивиду-ален. Далеко не такой эрудит, как Спасович или Урусов (а позднее 0.0. Грузенберг), он зато был силен житейской смекалкой и хваткой, «народностью» истоков своего красноречия. Уступая Спасовичу в глу-бине научного анализа, Карабчевскому — в логике доказательств, Александрову — в дерзании, Урусову и Андреевскому — в гармонии слова, он превосходил их всех в заразительной искренности, эмоцио-нальной мощи, ораторской изобретательности. Вообще, по авторитет-ному мнению А.Ф. Кони, «в Плевако сквозь внешнее обличие защит-ника выступал трибун» , который, однако, идеально владел трояким призванием защиты: «убедить, растрогать, умилостивить» . «Он был мастером красивых образов, каскадов громких фраз, ловких адвокат-ских трюков, остроумных выходок, неожиданно приходивших ему в голову и нередко спасавших клиентов от грозившей кары» . Насколь-ко непредсказуемы были защитительные находки Плевако, видно из двух его выступлений, о которых в свое время ходили легенды: в защи-ту священника, отрешенного от сана за воровство, и старушки, украв-шей жестяной чайник.
Первый случай со слов известного российского и советского адвока-та Н.В. Коммодова художественно описал не менее известный следова-тель и литератор, «классик» советского детектива Л.Р. Шейнин . Спустя три десятилетия, уже в наше время, МЛ. Аещинский, сославшись на то, что покойный Шейнин когда-то «рассказал» ему эту историю, дослов-но воспроизвел публикацию Шейнина (на что ушло 15 страниц) в сво-ем сочинении как бы от себя .
Суть дела с проворовавшимся священником вкратце излагали так-же В.В. Вересаев и В.И. Смолярчук . Вина подсудимого в хищении цер-ковных денег была доказана. Он сам в ней признался. Свидетели были все против него. Прокурор произнес убийственную для подсудимого речь. Плевако, заключивший пари с фабрикантом-меценатом С.Т. Мо-розовым (при свидетеле Вл.И. Немировиче-Данченко) о том, что он вместит свою защитительную речь в одну минуту и священника оправ-дают, промолчал все судебное следствие, не задал никому из свидетелей ни одного вопроса. Когда же наступила его минута, он только и сказал, обратясь к присяжным с характерной для него задушевностью: «Госпо-да присяжные заседатели! Более двадцати лет мой подзащитный отпус-кал вам грехи ваши. Один раз отпустите вы ему, люди русские!» При-сяжные оправдали священника.
В деле о старушке, укравшей чайник, прокурор, желая заранее па-рализовать эффект защитительной речи Плевако, сам высказал все воз-можное в пользу обвиняемой (сама она бедная, кража пустяковая, жалко старушку), но подчеркнул, что собственность священна, нельзя посягать на нее, ибо ею держится все благоустройство страны, «и если позволить людям не считаться с ней, страна погибнет». Поднялся Пле-вако: «Много бед, много испытаний довелось претерпеть России за ее больше чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали ее, полов-цы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на нее, взяли Мос-кву. Все вытерпела, все преодолела Россия, только крепла от испытаний и росла. Но теперь, теперь... Старушка украла жестяной чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она по-гибнет» . Старушку оправдали.
А вот малоизвестный случай. Некий помещик уступил кресть-янам часть своей земли по договоренности с ними — за то, что они проложили удобную дорогу от его усадьбы к шоссе. Но помещик умер, а его наследник отказался принять договоренность и снова от-нял у крестьян землю. Крестьяне взбунтовались, подожгли помещи-чью усадьбу, порезали скот. Бунтовщиков предали суду. Защищать их взялся Плевако. Суд был скорым. Прокурор метал против обвиняемых громы и молнии, а Плевако отмалчивался. Когда же слово было да-но защите, Федор Никифорович обратился к присяжным заседателям (сплошь из местных помещиков) с такими словами: «Я не согласен с господином прокурором и нахожу, что он требует чрезвычайно мяг-ких приговоров. Для одного подсудимого он затребовал пятнадцать лет каторги, а я считаю, этот срок надо удвоить. И этому прибавить пять лет... И этому... Чтобы раз и навсегда отучить мужиков верить слову русского дворянина!» Присяжные вынесли оправдательный при-говор .
Ряд уголовных процессов с участием Плевако обретал, главным об-разом благодаря именно его выступлениям, общероссийский резонанс. Первым из них по времени был митрофаньевский процесс, т. е. суд над игуменьей Серпуховского владычного монастыря Митрофанией, кото-рый вызвал интерес даже в Европе . В миру баронесса Прасковья Гри-горьевна Розен, дочь героя Отечественной войны 1812 г. и наместника на Кавказе 1831—1837 гг. генерала от инфантерии и генерал-адъютан-та Г.В. Розена (1782—1841), фрейлина царского двора, она в 1854 г. по-стриглась в монахини, а с 1861 г. владычествовала в Серпуховском мо-настыре. За 10 лет игуменья, опираясь на свои связи и близость ко дво-ру, наворовала посредством мошенничества и подлогов больше 700 тыс. рублей (сумма по тому времени колоссальная).
Следствие по делу Митрофании начал в Петербурге А.Ф. Кони (в то время прокурор Петербургского окружного суда) , а судил ее 5—15 ок-тября 1874 г. Московский окр уж ной суд под председательством П.А. Дейера . Плевако в качестве поверенного потерпевших стал на процессе главным обвинителем игуменьи и ее монастырских подручных. Под-твердив выводы следствия, опровергнув доводы защиты , он заявил: «Путник, идущий мимо высоких стен владычного монастыря, набожно крестится на золотые кресты храмов и думает, что идет мимо дома Бо-жьего, а в этом доме утренний звон подымал настоятельницу и ее слуг не на молитву, а на темные дела! Вместо храма — биржа, вместо молящего-ся люда — аферисты, вместо молитвы — упражнения в составлении век-селей, вместо подвигов добра — приготовления к ложным показаниям; вот что скрывалось за стенами. <...> Выше, выше стройте стены вверен-ных вам общин, чтобы миру не было видно дел, которые вы творите под покровом рясы и обители!» (II. 62—63). Суд признал игуменью Митрофанию виновной в мошенничестве и подлогах и приговорил ее к ссылке в Сибирь.
На сенсационном процессе П.П. Качки в Московском окружном суде 22—23 марта 1880 г. Плевако блеснул в более привычной для себя роли защитника подсудимой. Здесь — не в самом деле, а в сопутствую-щих ему обстоятельствах, — отчасти просматривался политический аспект. Дело в том, что 18-летняя дворянка Прасковья Качка была пад-черицей народника-пропагандиста Н.Е. Битмида и вращалась в «кра-мольной» среде. 15 марта 1879 г. на молодежной вечеринке (сходке?) в квартире видного народника П.В. Гортынского (в 1878 г. судившего-ся по «охотнорядскому» делу) Качка застрелила своего возлюбленного, студента Бронислава Байрашевского и попыталась было убить себя, но не смогла. Суд квалифицировал дело как убийство из ревности.
Плевако, дав психологически мастерский анализ всего пережито-го обвиняемой за ее 18 лет (сиротское детство, «физическое нездоро-вье», обманутая любовь), воззвал к милосердию присяжных: «При-смотритесь к этой 18-летней женщине и скажите мне, что она — зараза, которую нужно уничтожить, или зараженная, которую надо пощадить? <...> Не с ненавистью, а с любовью судите, если хотите правды. Пусть, по счастливому выражению псалмопевца, правда и милость встретятся в вашем решении, истина и любовь облобызаются!» (I. 43).
Суд определил поместить Качку для лечения в больницу. Вероятно, лечение пошло ей на пользу. Спустя пять лет В.Г. Короленко видел ее на пристани в Нижнем Новгороде среди пассажиров — «нарумяненной и напудренной», жизнерадостной .
Может быть, в самом сложном для себя положении Плевако как за-щитник оказался на процессе Александра Бартенева в Варшавском ок-ружном суде 7 февраля 1891 г., но именно здесь он произнес одну из самых блестящих своих речей, которая неизменно включается во все сборники образцов русского судебного красноречия.
Корнет Бартенев 19 июня 1890 г. в своей квартире застрелил по-пулярную артистку Императорского Варшавского театра Марию Висновскую. Следствие установило, что убийца и его жертва любили друг друга. Бартенев ревновал Висновскую, а та не очень верила в его лю-бовь. По словам Бартенева, подтвержденным записками Висновской, они в последний вечер договаривались уйти из жизни: он убьет ее, а потом — себя. Бартенев, однако, застрелив ее, стрелять в себя не стал. Сам факт убийства он не только не отрицал, но и добровольно сооб-щил о нем своему начальству сразу после случившегося.
Плевако в самом начале своей трехчасовой (!) защитительной речи (I. 136—156) объяснил, чего добивается защита, — не оправдать под-судимого, а лишь смягчить «меру заслуженной подсудимым кары». Не позволив себе бросить малейшую тень на репутацию Висновской (хотя даже обвинитель говорил о «темных пятнах» в ее жизни), Федор Ни-кифорович очень тонко «анатомировал» преступление Бартенева: «Бар-тенев весь ушел в Висновскую. Она была его жизнью, его волей, его законом. Вели она — он пожертвует жизнью. <...> Но она велела ему убить ее, прежде чем убить себя. Он исполнил страшный приказ. Но едва он сделал это, он потерялся: хозяина его души не стало, не было больше той живой силы, которая по своему произволу могла толкать его на доброе и злое». В заключение своей речи Плевако воскликнул: «О, если бы мертвые могли подавать голос по делам, их касающимся, я от-дал бы дело Бартенева на суд Висновской!»
Бартенев был приговорен к 8 годам каторги, но Александр III заме-нил ему каторгу разжалованием в солдаты.
Пожалуй, наибольший общественный резонанс из всех уголовных дел с участием Плевако вызвало необычное, взволновавшее всю Рос-сию дело С.И. Мамонтова в Московском окружном суде с присяжными заседателями 31 июля 1900 г. Савва Иванович Мамонтов (1841 — 1918) — промышленный магнат, главный акционер железнодорож-ной и двух заводских компаний — был одним из самых популярных в России меценатов . Его подмосковное имение Абрамцево в 1870— 1890-х годах было важным центром русской художественной жиз-ни. Здесь встречались и работали И.Е. Репин, В.И. Суриков, В.А. Се-ров, В.М. Васнецов, В.Д. Поленов, К.С. Станиславский, Ф.И. Шаляпин. В 1885 г. Мамонтов основал на свои средства Московскую частную русскую оперу, где впервые и проявил себя как великий певец Ша-ляпин, а вместе с ним блистали Н.И. Забела-Врубель, Н.В. Салина, В.А. Лосский и др. Осенью 1899 г. российская общественность была шокирована известием об аресте и скором предании суду Мамонто-ва, двух его сыновей и брата по обвинению в растрате («хищении и присвоении») 6 млн рублей из средств Московско-Ярославско-Архан-гельской железной дороги .
Процесс по делу Мамонтова вел председатель Московского окруж-ного суда Н.В. Давыдов (1848—1920) — авторитетный юрист, близкий друг и консультант Л.Н. Толстого, подсказавший писателю сюжеты пьес «Живой труп» и «Власть тьмы». Обвинял товарищ прокурора Мос-ковской судебной палаты П.Г. Курлов (будущий командир Отдельного корпуса жандармов). В числе свидетелей выступили писатель Н.Г. Гага-рин-Михайловский (автор тетралогии «Детство Темы», «Гимназисты», «Студенты», «Инженеры») и директриса Частной оперы К.С. Винтер — родная сестра оперной примадонны Т.С. Аюбатович и двух революци- онерок-народниц, каторжанок B . C . и О.С. Аюбатович .
Защищать его друзья В.И. Суриков и ВД. Поленов пригласили Плевако. Других обвиняемых защищали еще три мастера отечественной адвокатуры Н.П. Карабчевский, В.А. Маклаков и Н.П. Шу бинский.
Центральным событием процесса стала защитительная речь Пле-вако (II. 325—344). Федор Никифорович наметанным взглядом сразу определил слабость главного пункта обвинения. «Ведь хищение и при-своение, — говорил он, — оставляют следы: или прошлое Саввы Ивановича полно безумной роскоши, или настоящее — неправедной корысти. А мы знаем, что никто не указал на это. Когда же, отыски-вая присвоенное, судебная власть с быстротой, вызываемой важнос-тью дела, вошла в его дом и стала искать незаконно награбленное богатство, она нашла 50 рублей в кармане, вышедший из употребле-ния железнодорожный билет, стомарковую немецкую ассигнацию». Защитник показал, сколь грандиозен и патриотичен был замысел об-виняемого проложить железную дорогу от Ярославля до Вятки, чтобы «оживить забытый Север», и как трагично, из-за «неудачного выбора» исполнителей замысла, обернулась убытками и обвалом щедро финан-сированная операция. Сам Мамонтов разорился. «Но рассудите, что же тут было? — вопрошал Плевако. — Преступление хищника или ошибка расчета? Грабеж или промах? Намерение вредить Ярослав-ской дороге или страстное желание спасти ее интересы?»
Заключительные слова Плевако были, как всегда, столь же находчи-вы, сколь эффектны: «Если верить духу времени, то — «горе побежден-ным!» Но пусть это мерзкое выражение повторяют язычники, хотя бы по метрике она числилась православными или реформаторами. А мы скажем: «пощада несчастным!»
Суд признал факт растраты. Но все подсудимые были оправданы. Га-зеты печатали речь Плевако, цитировали ее, комментировали: «Плева-ко освободил !»
Сам Федор Никифорович объяснял секреты своих удач в качестве за-щитника очень просто. Первый секрет: он всегда был буквально преис-полнен чувством ответственности перед своими клиентами. «Между положением прокурора и защитника — громадная разница, — говорил он на процессе С.И. Мамонтова. — За прокурором стоит молчаливый, холодный, незыблемый закон, за спиной защитника — живые люди. Они полагаются на своих защитников, взбираются к ним на плечи и... страшно поскользнуться с такою ношей!» (II. 342). К тому же Плевако (может быть, как никто) умел воздействовать на присяжных заседате-лей. Этот свой секрет он объяснил В.И. Сурикову: «А ведь ты, Василий Иванович, когда пишешь свои портреты, стремишься заглянуть в душу того человека, который тебе позирует. Так вот и я стараюсь проникнуть взором в души присяжных и произношу речь так, чтобы она дошла до их сознания» .
Был ли Плевако всегда убежден в безвинности своих подзащитных? Нет. В защитительной речи по делу Александры Максименко, которая обвинялась в отравлении собственного мужа (1890), он прямо сказал: «Если вы спросите меня, убежден ли я в ее невиновности, я не скажу «да, убежден». Я лгать не хочу. Но я не убежден и в ее виновности. <...> Когда надо выбирать между жизнью и смертью, то все сомнения дол-жны решаться в пользу жизни» (I. 223). Впрочем, заведомо неправых дел адвокат Плевако, судя по всему, избегал. Так, он отказался защи-щать скандально известную аферистку Софью Блювштейн, по прозви-щу Сонька — золотая ручка , и не напрасно слыл среди обвиняемых Правыкой .
Разумеется, сила Плевако как судебного оратора заключалась не только в находчивости, эмоциональности, психологизме, но и в живо-писности слова. Хотя на бумаге его речи многое потеряли, они все-таки остаются выразительными. Плевако был мастер на картинные сравнения (о назначении цензуры: это щипцы, которые «снимают на-гар со свечи, не гася ее огня и света»); антитезы (о русском и еврее: «наша мечта — пять раз в день поесть и не затяжелеть, его — в пять дней раз и не отощать»: I. 97,108); эффектные обращения (к тени уби-того коллеги: «Товарищ, мирно спящий во гробе!», к присяжным по делу П.П. Качки: «Раскройте ваши объятия — я отдаю ее вам!»: I. 43, 164).
К недостаткам ораторской манеры Плевако критики относили ком-позиционную разбросанность и, особенно, «банальную риторику» от-дельных его речей . Оригинальность его дарования импонировала не всем. Поэт Д.Д. Минаев, признав еще в 1883 г., что Плевако — адвокат, «давно известный всюду, яко звезда родного зодиака», сочинил о нем хлесткую эпиграмму:
Проврется ль где-нибудь писака,
Случится ль где в трактире драка,
На суд ли явится из мрака
Воров общественных клоака,
Толкнет ли даму забияка,
Укусит ли кого собака,
Облает ли зоил-плевака,
Кто их спасает всех? — Плевако .
Иронически, хотя не без почтения («на поле бранном слова неис-товый бретер-рубака»), представлен Плевако и в словаре-альбоме П. К. Мартьянова , а также в эпиграмме А.Н. Апухтина: «Знать, в гос-поднем гневе суждено быть тако: в Петербурге — Плеве, а в Москве — Плевако» .
Не любил Федора Никифоровича М.Е. Салтыков-Щедрин, который, кстати, злословил адвокатуру как «помойную яму» . В 1882 г. он так рас-сказывал о Плевако московскому нотариусу и литератору Н.П. Орлову (Северову): «Я встретился с ним у А.Н. Пыпина и говорю: «Правда, что вы можете поставить на голову стакан с квасом и плясать?» А он вытаращил на меня свои глазища и отвечает: «Могу!»
По свидетельству Д.П. Маковицкого, и А.Н. Толстой в 1907 г. назвал Плевако «самым пустым человеком» . Но ранее, в письме к жене, Софье Андреевне, от 2 ноября 1898 г. Лев Николаевич дал такой отзыв: «Пле-вако — даровитый и скорее приятный человек, хотя не полный, как все специалисты» . По воспоминаниям П.А. Россиева, Толстой «направлял мужиков именно к Плевако: «Федор Никифорович, обелите несчастных» .
В личности Плевако сочетались цельность и размашистость, разно-чинский нигилизм и религиозность, житейская простота и разгульное барство (он устраивал гомерические пиры на зафрахтованных им па-роходах от Нижнего Новгорода до Астрахани) . Добрый к малоиму-щим, он буквально выколачивал огромные гонорары из купцов, требуя при этом авансы. Однажды некий толстосум, не уразумев слова «аванс», осведомился, что это такое. «Задаток знаешь?» — вопросом на вопрос ответил Плевако. «Знаю». — «Так вот аванс — тот же задаток, но в три раза больше».
Об отношении Плевако к такого рода клиентам говорит следующий факт. Купец 1-й гильдии Персиц подал в Московский совет присяжных поверенных жалобу на то, что Федор Никифорович отказался принять его, избил и спустил с лестницы. Совет затребовал у Плевако письмен-ное объяснение. Тот объяснил, что не мог принять Персица по семей-ным обстоятельствам, назначил ему другой день и попросил удалиться. «Но Персиц лез в комнаты, — читаем далее в объяснении Плевако. — Тогда <...> выведенный из терпения дерзостью и нахальством Перси-ца, я взял ею за руку и повернул на выход. Персиц резко оттолкнул мою руку, но я повернул его к себе спиною, выгнал из дома нахала, захлоп-нул дверь и выбросил ему его шубу в вестибюль. Бить его мне не было никакой надобности» . Совет оставил жалобу купца без последствий.
В товарищеском кругу, среди коллег по адвокатскому цеху Плевако пользовался репутацией «артельного человека». Его сотоварищ, укрыв-шийся под псевдонимом-инициалом «С», писал о нем в 1895 г.: «Он не может не вызывать к себе симпатий чертою своего неизмеримого доб-родушия и сердечной мягкости, которыми насквозь проникнуты его отношения к товарищам и ко всем окружающим вообще» . Смолоду и до смерти он был в Москве непременным членом различных благотво-рительных учреждений — таких как Общество призрения, воспитания и обучения слепых детей и Комитет для содействия устройству студен-ческих общежитий.
Симпатичной чертой характера Плевако была его снисходитель-ность к завистникам и злопыхателям. На застолье по случаю 25-летия его адвокатской карьеры он приветливо чокался и с друзьями и с недру-гами. Когда его жена удивилась этому, Федор Никифорович с обычным своим добродушием вздохнул: «А что же мне их судить!»
Вызывают уважение культурные запросы Плевако. «Библиотека его всеобъемлюща» , — свидетельствовал писатель П.А. Россиев. Плевако дорожил своими книгами, но щедро раздавал их друзьям и знакомым «почитать», в отличие от «книжных скупцов», вроде философа В.В. Ро-занова, который принципиально никому не давал своих книг, говоря: «Книга не девка, нечего ей по рукам ходить» .
Судя по воспоминаниям Б.С. Утевского, Плевако, хоть и «был стра-стным любителем и собирателем книг», сам будто бы «мало читал» .
В.И. Смолярчук опроверг это мнение, доказав, что читал Плевако мно-го. Правда, он не любил беллетристику, но увлекался литературой по истории, праву, философии и даже «в командировки брал с собой» книги И. Канта, Г. Гегеля, Ф. Ницше, Куно Фишера, Георга Еллинека. Вообще, «у него было какое-то нежное и заботливое отношение к кни-гам — своим и чужим, — вспоминал о Плевако Б.С. Утевский, сам боль-шой книголюб. — Он любил сравнивать книги с детьми. Его глубоко возмущал вид растрепанной, порванной или загрязненной книги. Он говорил, что так же, как существует (оно действительно существовало) «Общество защиты детей от жестокого обращения», следовало бы орга-низовать «Общество защиты книг от жестокого обращения» и у винов-ников такого отношения к книгам отнимать их так же, как отнимают детей у жестоко рбращающихся с ними родителей или опекунов» .
Федор Никифорович был не просто начитан. Его смолоду отличало редкостное сочетание исключительной памяти и наблюдательности с даром импровизации и чувством юмора, что выражалось в каскадах ос-трот, каламбуров, эпиграмм, пародий — ив прозе, и в стихах. Его сати-рический экспромт «Антифоны», сочиненный «в несколько минут», П.А. Россиев напечатал в № 2 «Исторического вестника» за 1909 г. (С. 689—690). Ряд своих фельетонов Плевако печатал в газете своего при-ятеля Н.П. Пастухова «Московский листок», а в 1885 г. предпринял было в Москве издание собственной газеты «Жизнь», но «предприятие не имело успеха и на десятом месяце прекратилось» .
Не случайно очень широк был круг личных связей Плевако с мас-терами культуры. Он общался с И.С. Тургеневым, Щедриным, Львом Толстым, дружил с В.И. Суриковым, М.А. Врубелем, К.А. Коровиным, К.С. Станиславским, М.Н. Ермоловой, Ф.И. Шаляпиным и другими ли-тераторами, художниками, артистами , с книгоиздателем И.Д. Сыти-ным . Федор Никифорович любил все виды зрелищ от народных гуля-ний до элитных спектаклей, но с наибольшим удовольствием посещал два «храма искусств» в Москве — Частную русскую оперу С.И. Ма-монтова и Художественный театр К.С. Станиславского и Вл.И. Неми-ровича-Данченко. По воспоминаниям художника К.А. Коровина, Пле-вако также «очень любил живопись и посещал все выставки» .
Великий Л.В. Собинов, прежде чем стать профессиональным пев-цом, служил помощником присяжного поверенного под патронатом Плевако и на одном из благотворительных концертов в доме своего патрона был представлен М.Н. Ермоловой. «Она спросила меня, — вспоминал Собинов, — не собираюсь ли я петь в Большом театре» . Леонид Витальевич вскоре начал и до конца жизни (с небольшими пе-рерывами) пел в Большом театре, но навсегда сохранил чувство уваже-ния к своему наставнику по адвокатуре. 9 ноября 1928 г. он писал сыну Плевако Сергею Федоровичу (младшему): «Я считаю прекрасной Вашу мысль устроить вечер памяти покойного Федора Никифоровича» .
Парадоксально, но факт: сам Федор Никифорович, носивший в раз-ное время три фамилии, имел двух сыновей с одним именем, причем они жили и адвокатствовали в Москве одновременно : Сергей Федорович Плевако-старший (род. в 1877 г.) был его сыном от первой жены, Е.А. Фи-липповой, а Сергей Федорович Плевако-младший (род. в 1886 г.) — от второй жены, М.А. Демидовой .
Первая жена Плевако была народной учительницей из Тверской губернии. Брак оказался неудачным, и, вероятно, по вине Федора Ни-кифоровича, который оставил жену с малолетним сыном. Во всяком случае, Сергей Федорович Плевако-старший в автобиографии даже не упомянул об отце. Зато со второй женой Федор Никифорович прожил в согласии почти 30 лет, до конца своих дней.
В 1879 г. Мария Андреевна Демидова, жена фабриканта, обратилась к Плевако за юридической помощью, влюбилась в адвоката и навсегда предпочла его фабриканту . Знаменитый двухтомник речей Федора Ни-кифоровича вышел в свет на следующий же год после его смерти в «Из-дании М.А. Плевако».
Одной из главных черт личности Плевако его биографы считают ре-лигиозность . Он был глубоко верующим человеком — всю жизнь, с раннего детства и до смерти. Под свою веру в Бога он подводил даже научное обоснование. Богословский отдел в его домашней библиотеке был одним из самых богатых. Плевако не только соблюдал религиозные обряды, молился в церкви, любил крестить детей всех сословий и ран-гов, служил ктитором (церковным старостой) в Успенском соборе Кремля, но и пытался примирить «богохульные» взгляды Л.Н. Толсто-го с догматами официальной церкви, а в 1904 г. на приеме у папы рим-ского Пия X доказывал, что поскольку Бог один, то в мире должна быть одна вера и, следовательно, католики и православные обязаны жить в добром согласии...
Федор Никифорович Плевако умер 23 декабря 1908 г., на 67-м году жизни, в Москве. Смерть его вызвала особую скорбь, естественно, у москвичей, многие из которых считали, что в «Белокаменной есть пять главных достопримечательностей: Царь-колокол, Царь-пушка, собор Василия Блаженного, Третьяковская галерея и Федор Плевако» . Но от-кликнулась на уход Плевако из жизни вся Россия: некрологи печата-лись во множестве газет и журналов . Газета «Раннее утро» 24 декаб-ря 1908 г. выразилась так: «Вчера Россия потеряла своего Цицерона, а Москва — своего Златбуста».
Похоронили москвичи «своего Златоуста» при громадном стечении народа всех слоев и состояний на кладбище Скорбященского монасты-ря. В 30-е годы останки Плевако были перезахоронены на Ваганьков-ском кладбище.
Н.А. Троицкий
Из книги «Корифеи российской адвокатуры»
Столичная адвокатура. М., 1895. С. 108; Вольский А.В. Правда о Плевако: РГАЛИ. Ф. 1822. On . 1. Д. 555. Л. 11. «Королем адвокатуры» в России считался В.Д. Спасович, но он был менее популярным, чем Плевако.
Маклаков В.А. Ф.Н. Плевако. М., 1910. С. 4. Поклонники знаменитого адвоката Л.А. Куперника «прославляли» его таким стихом: «Одесский адвокат Куперник — изве-стный всех Плевак соперник»: ГАРФ. Ф.Р-8420. On . 1. Д. 5. Л. 11.
См.: Маклаков В.А. Указ. соч.; Доброхотов А.М. Слава и Плевако. М., 1910; Подгор-ный Б.А. Плевако. М., 1914; Кони А.Ф. Князь А.И. Урусов и Ф.Н. Плевако //Собр. соч.: В 8 т. М., 1968. Т. 5; Аяховецкий А. Д Характеристики известных русских судебных ораторов (В.ф. Плевако. В.М. Пржевальский. Н.П. Шубинский). СПб., 1902; Смолярчук В.И. Гиганты и чародеи слова. М., 1984; Он же. Адвокат Федор Плевако. Челябинск, 1989.
Фёдор Никифорович Плевако (25 апреля 1842, Троицк — 5 января 1909, Москва) — известнейший в дореволюционной России адвокат, юрист, судебный оратор, действительный статский советник. Выступал защитником на многих громких политических и гражданских процессах.
Обладая живым умом, истинно русской смекалкой и красноречием, одерживал судебные победы над своими оппонентами. В юридической среде его даже прозвали "Московским златоустом". Существует подборка наиболее кратких и ярких судебных речей адвоката, в которых нет сложных и запутанных судебных терминов. Если Вы развиваете своё ораторское мастерство, структура и риторические приёмы Ф.Н. Плевако могут Вам в этом способствовать.
Очень известна защита адвокатом Ф.Н.Плевако владелицы небольшой лавчонки, полуграмотной женщины, нарушившей правила о часах торговли и закрывшей торговлю на 20 минут позже, чем было положено, накануне какого-то религиозного праздника. Заседание суда по её делу было назначено на 10 часов. Суд вышел с опозданием на 10 минут. Все были налицо, кроме защитника — Плевако. Председатель суда распорядился разыскать Плевако. Минут через 10 Плевако, не торопясь, вошёл в зал, спокойно уселся на месте защиты и раскрыл портфель. Председатель суда сделал ему замечание за опоздание. Тогда Плевако вытащил часы, посмотрел на них и заявил, что на его часах только пять минут одиннадцатого. Председатель указал ему, что на стенных часах уже 20 минут одиннадцатого. Плевако спросил председателя:
— А сколько на ваших часах, ваше превосходительство?
Председатель посмотрел и ответил:
— На моих пятнадцать минут одиннадцатого.
Плевако обратился к прокурору:
— А на ваших часах, господин прокурор?
Прокурор, явно желая причинить защитнику неприятность, с ехидной улыбкой ответил:
— На моих часах уже двадцать пять минут одиннадцатого.
Он не мог знать, какую ловушку подстроил ему Плевако и как сильно он, прокурор, помог защите. Судебное следствие закончилось очень быстро. Свидетели подтвердили, что подсудимая закрыла лавочку с опозданием на 20 минут. Прокурор просил признать подсудимую виновной. Слово было предоставлено Плевако. Речь длилась две минуты. Он заявил:
— Подсудимая действительно опоздала на 20 минут. Но, господа присяжные заседатели, она женщина старая, малограмотная, в часах плохо разбирается. Мы с вами люди грамотные, интеллигентные. А как у вас обстоит дело с часами? Когда на стенных часах — 20 минут, у господина председателя — 15 минут, а на часах господина прокурора — 25 минут. Конечно, самые верные часы у господина прокурора. Значит, мои часы отставали на 20 минут, и поэтому я на 20 минут опоздал. А я всегда считал свои часы очень точными, ведь они у меня золотые, мозеровские. Так если господин председатель, по часам прокурора, открыл заседание с опозданием на 15 минут, а защитник явился на 20 минут позже, то как можно требовать, чтобы малограмотная торговка имела лучшие часы и лучше разбиралась во времени, чем мы с прокурором? — Присяжные совещались одну минуту и оправдали подсудимую.
Однажды к Плевако попало дело по поводу убийства одним мужиком своей бабы. На суд Плевако пришёл как обычно, спокойный и уверенный в успехе, причём безо всяких бумаг и шпаргалок. И вот, когда дошла очередь до защиты, Плевако встал и произнёс:
В зале начал стихать шум. Плевако опять:
— Господа присяжные заседатели!
В зале наступила мёртвая тишина. Адвокат снова:
— Господа присяжные заседатели!
В зале прошёл небольшой шорох, но речь не начиналась. Опять:
— Господа присяжные заседатели!
Тут в зале прокатился недовольный гул заждавшегося долгожданного зрелища народа. А Плевако снова:
— Господа присяжные заседатели!
Тут уже зал взорвался возмущеннием, воспринимая всё как издевательство над почтенной публикой. А с трибуны снова:
— Господа присяжные заседатели!
Началось что-то невообразимое. Зал ревел вместе с судьёй, прокурором и заседателями. И вот наконец Плевако поднял руку, призывая народ успокоиться.
— Ну вот, господа, вы не выдержали и 15 минут моего эксперимента. А каково было этому несчастному мужику слушать 15 лет несправедливые попрёки и раздражённое зудение своей сварливой бабы по каждому ничтожному пустяку?!
Зал оцепенел, потом разразился восхищёнными аплодисментами. Мужика оправдали.
Однажды он защищал пожилого священника, обвинённого в прелюбодеянии и воровстве. По всему выходило, что подсудимому нечего рассчитывать на благосклонность присяжных. Прокурор убедительно описал всю глубину падения священнослужителя, погрязшего в грехах. Наконец, со своего места поднялся Плевако. Речь его была краткой: "Господа присяжные заседатели! Дело ясное. Прокурор во всём совершенно прав. Все эти преступления подсудимый совершил и сам в них признался. О чём тут спорить? Но я обращаю ваше внимание вот на что. Перед вами сидит человек, который тридцать лет отпускал вам на исповеди грехи ваши. Теперь он ждёт от вас: отпустите ли вы ему его грех?"
Нет надобности уточнять, что попа оправдали.
Суд рассматривает дело старушки, потомственной почётной гражданки, которая украла жестяной чайник стоимостью 30 копеек. Прокурор, зная о том, что защищать её будет Плевако, решил выбить почву у него из-под ног, и сам живописал присяжным тяжёлую жизнь подзащитной, заставившую её пойти на такой шаг. Прокурор даже подчеркнул, что преступница вызывает жалость, а не негодование. Но, господа, частная собственность священна, на этом принципе зиждится мироустройство, так что если вы оправдаете эту бабку, то вам и революционеров тогда по логике надо оправдать. Присяжные согласно кивали головами, и тут свою речь начал Плевако. Он сказал: "Много бед, много испытаний пришлось претерпеть России за более чем тысячелетнее существование. Печенеги терзали её, половцы, татары, поляки. Двунадесять языков обрушились на неё, взяли Москву. Всё вытерпела, всё преодолела Россия, только крепла и росла от испытаний. Но теперь… Старушка украла старый чайник ценою в 30 копеек. Этого Россия уж, конечно, не выдержит, от этого она погибнет безвозвратно…"
Старушку оправдали.
В дополнение к истории об известном адвокате Плевако. Защищает он мужика, которого проститутка обвинила в изнасиловании и пытается по суду получить с него значительную сумму за нанесённую травму. Обстоятельства дела: истица утверждает, что ответчик завлёк её в гостиничный номер и там изнасиловал. Мужик же заявляет, что всё было по доброму согласию. Последнее слово за Плевако. "Господа присяжные," — заявляет он. "Если вы присудите моего подзащитного к штрафу, то прошу из этой суммы вычесть стоимость стирки простынь, которые истица запачкала своими туфлями".
Проститутка вскакивает и кричит: "Неправда! Туфли я сняла!!!"
В зале хохот. Подзащитный оправдан.
Великому русскому адвокату Ф.Н. Плевако приписывают частое использование религиозного настроя присяжных заседателей в интересах клиентов. Однажды он, выступая в провинциальном окружном суде, договорился со звонарём местной церкви, что тот начнёт благовест к обедне с особой точностью. Речь знаменитого адвоката продолжалось несколько часов, и в конце Ф.Н. Плевако воскликнул:
— Если мой подзащитный невиновен, Господь даст о том знамение!
И тут зазвонили колокола. Присяжные заседатели перекрестились. Совещание длилось несколько минут, и старшина объявил оправдательный вердикт.
Настоящее дело было рассмотрено Острогожским окружным судом 29-30 сентября 1883 г. Князь Г.И. Грузинский обвинялся в умышленном убийстве бывшего гувернёра своих детей, впоследствии управляющего имением жены Грузинского — Э.Ф. Шмидта. Предварительным следствием было установлено следующее. После того, как Грузинский потребовал от жены прекратить всякие отношения в качестве гувернёра, очень быстро сближается с женой, с гувернёром, а его самого уволил, жена заявила о невозможности дальнейшего проживания с Грузинским и потребовала выдела части принадлежащего ей имущества. Поселившись в отведённой ей усадьбе, она пригласила к себе в качестве управляющего Э.Ф. Шмидта. Двое детей Грузинского после раздела некоторое время проживали с матерью в той же усадьбе, где управляющим был Шмидт. Шмидт нередко пользовался этим для мести Грузинскому. Последнему были ограничены возможности для свиданий с детьми, детям о Грузинском рассказывалось много компрометирующего. Будучи вследствие этого постоянно в напряжённом нервном состоянии при встречах со Шмидтом и с детьми, Грузинский во время одной из этих встреч убил Шмидта, выстрелив в него несколько раз из пистолета.
Плевако, защищая подсудимого, очень последовательно доказывает отсутствие в его действиях умысла и необходимость их квалификации как совершенных в состоянии умоисступления. Он делает упор на чувства князя в момент совершения преступления, на его отношения с женой, на любовь к детям. Он рассказывает историю князя, о его встрече с "приказчицей из магазина", об отношениях со старой княгиней, о том, как князь заботился о своей жене и детях. Подрастал старший сын, князь его везёт в Петербург, в школу. Там он заболевает горячкой. Князь переживает три приступа, во время которых он успевает вернуться в Москву: "Нежно любящему отцу, мужу хочется видеть семью".
"Тут-то князю, ещё не покидавшему кровати, пришлось испытать страшное горе. Раз он слышит — больные так чутки — в соседней комнате разговор Шмидта и жены: они, по-видимому, перекоряются; но их ссора так странна: точно свои бранятся, а не чужие, то опять речи мирные…, неудобные… Князь встаёт, собирает силы…, идёт, когда никто его не ожидал, когда думали, что он прикован к кровати… И что же. Милые бранятся — только тешатся: Шмидт и княгиня вместе, нехорошо вместе… Князь упал в обморок и всю ночь пролежал на полу. Застигнутые разбежались, даже не догадавшись послать помощь больному. Убить врага, уничтожить его князь не мог, он был слаб… Он только принял в открытое сердце несчастье, чтобы никогда с ним не знать разлуки".
Плевако утверждает, что он бы ещё не осмелился обвинять княгиню и Шмидта, обрекать их на жертву князя, если бы они уехали, не кичились своей любовью, не оскорбляли его, не вымогали у него деньги, что это "было бы лицемерием слова". Княгиня живёт в её половине усадьбы. Потом она уезжает, оставляя детей у Шмидта. Князь разгневан: он забирает детей. Но тут происходит непоправимое. "Шмидт, пользуясь тем, что детское бельё — в доме княгини, где живёт он, с ругательством отвергает требование и шлёт ответ, что без 300 руб. залогу не даст князю двух рубашек и двух штанишек для детей. Прихлебатель, наёмный любовник становится между отцом и детьми и смеет обзывать его человеком, способным истратить детское бельё, заботится о детях и требует с отца 300 руб. залогу. Не только у отца, которому это сказано, — у постороннего, который про это слышит, встают дыбом волосы!"
На следующее утро князь увидел детей в измятых рубашонках. "Сжалось сердце у отца. Отвернулся он от этих говорящих глазок и — чего не сделает отцовская любовь — вышел в сени, сел в приготовленный ему для поездки экипаж и поехал… поехал просить у своего соперника, снося позор и унижение, рубашонок для детей своих". Шмидт же ночью, по показаниям свидетелей, заряжал ружья. При князе был пистолет, но это было привычкой, а не намерением. "Я утверждаю, — говорил Плевако, — что его ждёт там засада. Бельё, отказ, залог, заряженные орудия большого и малого калибра — всё говорит за мою мысль". Он едет к Шмидту. "Конечно, душа его не могла не возмутиться, когда он завидел гнездо своих врагов и стал к нему приближаться. Вот оно — место, где, в часы его горя и страдания, они — враги его — смеются и радуются его несчастью. Вот оно — логовище, где в жертву животного сластолюбия пройдохи принесены и честь семьи, и честь его, и все интересы его детей. Вот оно — место, где мало того, что отняли у него настоящее, отняли и прошлое счастье, отравляя его подозрениями… Не дай бог переживать такие минуты! В таком настроении он едет, подходит к дому, стучится в дверь. Его не пускают. Лакей говорит о приказании не принимать. Князь передаёт, что ему, кроме белья, ничего не нужно. Но вместо исполнения его законного требования, вместо, наконец, вежливого отказа, он слышит брань, брань из уст полюбовника своей жены, направленную к нему, не делающему со своей стороны никакого оскорбления. Вы слышали об этой ругани: "Пусть подлец уходит, не смей стучать, это мой дом! Убирайся, я стрелять буду". Всё существо князя возмутилось. Враг стоял близко и так нагло смеялся. О том, что он вооружён, князь мог знать от домашних, слышавших от Цыбулина. А тому, что он способен на всё злое — князь не мог не верить". Он стреляет. "Но, послушайте, господа, — говорит защитник, — было ли место живое в душе его в эту ужасную минуту". "Справиться с этими чувствами князь не мог. Слишком уж они законны. Муж видит человека, готового осквернить чистоту брачного ложа; отец присутствует при сцене соблазна его дочери; первосвященник видит готовящееся кощунство, — и, кроме них, некому спасти право и святыню. В душе их поднимается не порочное чувство злобы, а праведное чувство отмщения и защиты поругаемого права. Оно — законно, оно свято; не поднимись оно, они — презренные люди, сводники, святотатцы!"
Заканчивая свою речь, Фёдор Никифорович сказал: "О, как бы я был счастлив, если бы, измерив и сравнив своим собственным разумением силу его терпения и борьбу с собой, и силу гнёта над ним возмущающих душу картин его семейного несчастья, вы признали, что ему нельзя вменить в вину взводимое обвинение, а защитник его — кругом виноват в недостаточном умении выполнить принятую на себя задачу…"
Присяжные вынесли оправдательный вердикт, признав, что преступление было совершено в состоянии умоисступления.
Другой раз обратился к нему за помощью один богатый московский купец. Плевако говорит: "Я об этом купце слышал. Решил, что заломлю такой гонорар, что купец в ужас придёт. А он не только не удивился, но и говорит:
— Ты только дело мне выиграй. Заплачу, сколько ты сказал, да ещё удовольствие тебе доставлю.
— Какое же удовольствие?
— Выиграй дело, — увидишь.
Дело я выиграл. Купец гонорар уплатил. Я напомнил ему про обещанное удовольствие. Купец и говорит:
— В воскресенье, часиков в десять утра, заеду за тобой, поедем.
— Куда в такую рань?
— Посмотришь, увидишь.
Настало воскресенье. Купец за мной заехал. Едем в Замоскворечье. Я думаю, куда он меня везёт. Ни ресторанов здесь нет, ни цыган. Да и время для этих дел неподходящее. Поехали какими-то переулками. Кругом жилых домов нет, одни амбары и склады. Подъехали к какому-то складу. У ворот стоит мужичонка. Не то сторож, не то артельщик. Слезли. Купчина спрашивает у мужика:
— Готово?
— Так точно, ваше степенство.
— Веди…
Идём по двору. Мужичонка открыл какую-то дверь. Вошли, смотрю и ничего не понимаю. Огромное помещение, по стенам полки, на полках посуда. Купец выпроводил мужичка, раздел шубу и мне предложил снять. Раздеваюсь. Купец подошёл в угол, взял две здоровенные дубины, одну из них дал мне и говорит:
— Начинай.
— Да что начинать?
— Как что? Посуду бить!
— Зачем бить её?
Купец улыбнулся.
— Начинай, поймёшь, зачем…
Купец подошёл к полкам и одним ударом поломал кучу посуды. Ударил и я. Тоже поломал. Стали мы бить посуду и, представьте себе, вошёл я в такой раж и стал с такой яростью разбивать дубиной посуду, что даже вспомнить стыдно. Представьте себе, что я действительно испытал какое-то дикое, но острое удовольствие и не мог угомониться, пока мы с купчиной не разбили всё до последней чашки. Когда всё было кончено, купец спросил меня:
— Ну что, получил удовольствие?
Пришлось сознаться, что получил".
Спасибо за внимание!
Федор Никифорович Плевако
Федор Плевако родился 13 (25) апреля 1842 года в городе Троицк Оренбургской губернии.
По некоторым данным, Ф.Н. Плевако был сыном дворянина и крепостной. Отец - надворный советник Василий Иванович Плевак, мать - Екатерина Степанова. Родители не состояли в официальном церковном браке, поэтому двое их детей - Федор и Дормидонт - считались незаконнорожденными.
В 1851 году семья Плеваков переселилась в Москву. Осенью братьев отдали в Коммерческое училище на Остоженке. Братья учились хорошо, особенно Федор прославился математическими способностями. К концу первого года учебы их имена были занесены на «золотую доску» училища, однако через полгода Федора и Дормидонта исключили как незаконнорожденных. Осенью 1853 года, благодаря хлопотам отца,они были приняты в 1-ю Московскую гимназию на Пречистенке - сразу в 3 класс.
В 1864 году Федор Плевако окончил курс на юридическом факультете Московского университета, получив степень кандидата права.
Занимался и научной работой - перевел на русский язык и издал в 1874 курс римского гражданского права немецкого юриста Г.Ф. Пухты.
В 1870 году Плевако поступил в сословие присяжных поверенных округа московской судебной палаты и вскоре стал известен как один из лучших адвокатов Москвы, часто не только бесплатно помогавший бедным, но иногда оплачивавший непредвиденные расходы неимущих клиентов.
Карьера Плевако состоялась в Москве, которая наложила на него свой отпечаток. Религиозное настроение московского населения и богатое событиями прошлое города находили отклик в судебных речах адвоката. Они изобилуют текстами Священного Писания и ссылками на учение святых отцов. Природа наделила Плевако редким даром проникновенного, убеждающего слова, в котором он не отказывал людям, ищущим защиту от несправедливости.
Образцами судебного красноречия стали речи Плевако по делу игуменьи Митрофании, участвовавшей в подлогах, мошенничестве и присвоении чужого имущества (Плевако выступил гражданским истцом), в защиту Бартенева по делу об убийстве артистки Висновской (это дело послужило основой рассказа И. А. Бунина "Дело корнета Елагина"), в защиту Качки, 19-летней девушки, подозреваемой в убийстве студента Байрошевского, с к-рым она находилась в любовной связи.Федор Никифорович Плевако выступал по делам о крестьянских волнениях, о фабричных беспорядках (о стачке на фабрике Товарищества С. Морозова), в защиту рабочих, обвинявшихся в сопротивлении властям и истреблении фабричного имущества.
С 1907 года- депутат 3-й Государственной думы от партии октябристов. Являлся членом партии «Союз 17 октября» («Октябристы») - право-либерального политическогообъединения.
В круг друзей и знакомых Плевако входили литераторы, артисты и художники: Михаил Врубель, Константин Коровин, Константин Станиславский, Василий Суриков, Федор Шаляпин, Мария Ермолова, Леонид Собинов.
Факты о карьере Плевако - известные политические процессы:
- Дело люторических крестьян (1880)
- Дело севских крестьян (1905)
- Дело о стачке рабочих фабрики Товарищества С. Морозова (1886) и других.
- Дело Бартенева
- Дело Грузинского
- Дело Лукашевича
- Дело Максименко
- Дело рабочих Коншинской фабрики
- Дело Замятниных
- Дело Засулич (приписывается Плевако, на самом деле защитником был П. А. Александров)
Прочие интересные факты:
- У Ф. Н. Плевако было два сына (от разных жён), которых звали одинаково - Сергеями Фёдоровичами. Позже оба Сергея Фёдоровича Плевако стали адвокатами и практиковали в Москве, из-за чего нередко возникала путаница.
- По альтернативной биографии, описанной, например, в новелле В. Пикуля «Не от крапивного семени», отцом Ф. Н. Плевако был сосланный польский революционер.
Умер 23 декабря 1908 года (5 января 1909), на 67-ом году жизни, в Москве. Известного адвоката похоронили на кладбище Скорбященского монастыря. В 1929 г. монастырское кладбище решено было закрыть, а на его месте организовать детскую площадку. Останки Плевако, по решению родственников, были перезахоронены на Ваганьковском кладбище.
В данный момент существует Некоммерческое партнерство «Фонд исторического и культурного наследия отечественной юриспруденции имени Ф.Н. Плевако».
Главной целью Партнерства является деятельность по сохранению и популяризации исторического и культурного наследия адвокатуры выдающегося российского юриста Ф.Н. Плевако, а также содействие членам Партнерства в осуществлении деятельности, направленной на достижение вышеуказанной цели.