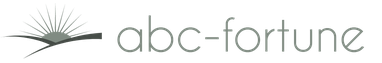Прослеживая истоки современных войн, можно сделать вывод, что в их основе лежат два фактора: возникновение унитарных государств, с их тенденцией к централизации; стабильность развития промышленности и торговли, контроль всех доходов и… изобретение штыка. Первый из этих факторов сделал возможным - или даже неизбежным - организацию регулярных армий на постоянной основе. Второй позволил осуществить применение этих армий с использованием стратегии и тактики, соответствующих новым видам вооружений, которые были внедрены в практику.
За сравнительно короткий промежуток времени все искусство войны совершенно изменилось. Войны больше не начинались ни со съезда в определенное место джентльменов со слугами и вассалами, ни с вооружения и оснащения отрядов едва обученных ополченцев. Да и оружие не начинали ковать только после начала войны - оно уже лежало наготове, наточенное и вычищенное, рядом с рукой его хозяина. И военачальник уже не осматривал острым взглядом поле будущего боя, выбирая место получше, где следовало бы расположить массу пикинеров, которые прикроют ряды стрелков. Теперь огонь и таранный удар соединялись воедино. И офицеры уже не беспокоились о том, что их подразделения стрелков могут быть разметаны кавалерией, окажись они без прикрытия леса пик. Теперь, образно говоря, каждый мушкет отрастил себе стальное острие и каждый мушкетер стал пикинером.
Когда же к этому потрясающему нововведению было добавлено принятие на вооружение в европейских армиях усовершенствованного мушкета с кремневым замком, то огневая мощь на поле боя стала решающим фактором. Ушли в прошлое длинные горящие фитили, столь зависимые от ветра и дождя. И туда же удалились темпераментные колесцовые замки с их ключами для завода и прижимными пружинами. Теперь мушкет, пистолет и карабин - все они имели один и тот же механизм, которые мог содержаться в рабочем состоянии с помощью самых простых инструментов. При этом не только усилилась скорость стрельбы, - ликвидация пикинеров позволила вдвое увеличить численность мушкетов в боевых порядках. Неуклонный, но постоянный прогресс шел также в отношении конструкции и технологии производства артиллерийских орудий, в результате чего этот род войск постепенно становился все более и более мобильным.
Все это были новые инструменты ведения войны, которые ожидали появления великих полководцев и блистательных солдат XVIII века. И эти великие полководцы появились во множестве: Карл XII, Мальборо, Ойген, Сакс, Клайв, Вольф, Вашингтон, Суворов и целая плеяда военачальников, носивших трехцветную кокарду. Их судьба и слава, добытые ведомыми ими солдатами, стали частью воинских традиций их народов. Но, если бы беспристрастного судью воинских достоинств попросили назвать генерала и солдат, заслуживших самую высокую репутацию в этом столетии, он не колеблясь выбрал бы Фридриха II - прозванного Великим - и его несравненную прусскую армию.
Этот его выбор не означал бы пренебрежительного отношения к генералам и солдатам, упомянутым выше. Фридрих не был столь же успешен на поле боя, как герцог Мальборо; не был он и отважнее Карла XII. Его пруссаки не превосходили храбростью облаченных в красные мундиры воинов при Фонтенуа, не были они ни более стойкими, чем привычные к трудностям крестьяне графа Александра Суворова, ни более патриотичными, чем те воины армии Вашингтона, которые умирали и замерзали в Вэли-Фордже. Но как военной машине, обученной маршировать и вести огонь, маневрировать и наступать быстрее и лучше, чем это делали любые солдаты прошлого и настоящего, им не было равных. И человек, который вел их, - государственный деятель, поэт, стратег, общественный реформатор, философ и организатор - был, вне всякого сравнения, одним из величайших военачальников всех времен.
Возвышение Пруссии представляет собой отличный пример потенциальной мощи, заключенной в небольшом полумилитаристском государстве, управляемом способными и работящими людьми, думающими и заботящимися только о безопасности и упрочении своего государства. История Пруссии как государства, собственно, начинается только в 1701 году, когда Фридрих I, маркграф Бранденбургский, короновал себя в качестве прусского короля. Но еще задолго до этого правители Бранденбурга с помощью войн, браков и договоров умудрялись сохранять целостность своих земель, а время от времени еще и приумножать их. Политика эта нашла свое наиболее яркое выражение в период правления предыдущего маркграфа Фридриха-Вильгельма, прославившегося своей крупной победой над шведами при Фербеллине и известного как «Великий курфюрст» (маркграфы Бранденбурга были одними из девяти принцев, имевших право избирать императора Великой Римской империи германской нации). Твердо уверенный в том, что сильная армия столь же необходима в дипломатии, как и на поле брани, маркграф владел шпагой столь же искусно, как и пером. Своим разумным правлением и курсом на религиозную терпимость в стране он не только заслужил любовь своего народа (достаточно необычное чувство в Германии тех дней), но и привлек в страну тысячи эмигрантов-протестантов из Франции и Голландии (ставших со временем чистокровными тевтонскими предками расы господ).
При Фридрихе армия продолжала увеличиваться в численности, и на полях Войны за испанское наследство прусские войска обрели завидную репутацию.
В 1713 году ему наследовал его сын, Фридрих-Вильгельм. Этот монарх остался в истории как фанатичный деспот - грубый и жестокий, с неуравновешенным нравом, - но в то же время как крупный организатор и необыкновенный труженик на троне, фанатически преданный идее возвышения Гогенцоллернов и расширения власти Пруссии. Финансы, сколоченные им путем суровой экономии, которую он ввел в каждой области государственного управления - в том числе и в расходах на королевский двор (королева была вынуждена обходиться только одной придворной дамой), - он расходовал в основном на армию. Численность ее была увеличена с 50 000 до 80 000 человек, набранных в основном насильственной вербовкой. Пройдохи вербовщики и банды проходимцев-охмурял стали столь же привычным антуражем во всех прусских владениях, как и в английских портах во время войны, а любой пробел между этими методами привлечения новых рекрутов в армию заполнялся той или иной формой воинской повинности. Все аристократы были обязаны служить в качестве офицеров, что связывало феодальную знать с короной тесными и жесткими военными узами. Их юные сыновья занимались в военных школах, и этот кадетский корпус молодых юнкеров был кадровым резервом для офицеров все увеличивающейся армии. Его особым увлечением, которому он предавался со всей страстью, был полк гигантов гренадер, которых он завлекал деньгами или даже похищал из всех стран Европы. По словам генерала Фуллера, некий итальянский аббат много выше среднего роста был похищен, когда служил мессу в одном из итальянских костелов. Добытые такими же способами рослые девицы должны были стать достойными подругами этих воинов-монстров. Эти любимые Фридрихом «длинные парни» так никогда и не побывали на поле боя, и одним из первых своих указов Фридрих II распустил эту чрезвычайно дорогую коллекцию.
Как и можно было ожидать от столь прилежного монарха-труженика, в королевской семье насчитывалось четырнадцать принцев и принцесс. Но смерть не видит никакой разницы между принцем и нищим, и лишь четвертый сын короля, Карл-Фридрих, стал наследником престола - и, как можно было заметить, этот титул скорее был ему в тягость, чем в радость. Фридрих-Вильгельм, который позволял себе поколачивать тростью даже королеву, не говоря уже о ком-либо из подданных, попадавших ему под горячую руку, будь то канцлер империи или лакей, не жалел розог для воспитания своих детей. К сожалению, чувствительный ребенок, которому судьба предназначила стать наследником престола, был прямой противоположностью тому, каким, по мнению доброго короля, должен быть будущий правитель. Мало кому из детей выпало на долю такое трудное детство, как юному Карлу-Фридриху. Жестокие порки, полуголодное существование, оскорбления, унижения и намеренная жестокость сопровождали его вплоть до самого дня смерти его отца. Дважды король в слепой ярости едва не убил его - однажды пытался задушить шнуром от портьеры, а в другой раз от мальчика едва удалось отвести клинок отцовской шпаги.
Доведенный едва ли не до безумия подобным обращением, юный принц задумал побег. План его дошел до ушей отца, и юноша был посажен под арест, осужден за дезертирство и, по настоянию отца, приговорен к расстрелу. Лишь вмешательство многих известных личностей, в том числе самого императора, побудило старого тирана помиловать сына. Принца, однако, заставили присутствовать при казни его ближайшего друга, молодого лейтенанта, который помогал ему в подготовке побега.
Прусский конный гренадер
Представляется просто чудом, что, имея отцом такое чудовище, юный принц сохранил в своем характере умеренность и здравый смысл, которые он обычно демонстрировал в отношении тех, с кем общался. Действия же его в качестве государственного мужа, наоборот, были отмечены такой печатью цинизма, безжалостности, лживости и откровенного мошенничества, которая редко встречалась даже среди коронованных голов Европы.
Но доскональное постижение всего, относящегося к прусским владениям, от возведения плотин до разведения свиней - а все эти знания вдалбливались в сопротивляющегося такому познанию юношу силой или посредством силы, - дали молодому принцу такое знание своего будущего королевства, которым редко какой монарх мог бы похвастаться. К тому же между принцем и его народом постепенно возникло прочное чувство привязанности и уважения - что станет весьма важным фактором, когда королевство будет едва не завоевано врагами.
В последние годы правления старого короля было заключено нечто вроде перемирия между отцом и сыном, который во исполнение своего долга будущего монарха женился на выбранной для него невесте и стал выказывать интерес и даже рвение в изучении различных державных аспектов прусского государства. Ему было позволено завести свой небольшой двор в его замке Рейнсберг. Здесь он погрузился в свои литературные занятия, играл на флейте и предавался философским размышлениям со своими друзьями, многие из которых были французами. (Именно эта франкофилия и заставляла порой его отца впадать в почти неуправляемую ярость.) Такое гедонистическое существование, которое, как часто говаривал Фридрих, было самым счастливым периодом его жизни, обмануло многих из его современников, предполагавших расцвет в Пруссии новой великой эры культуры и просвещения, когда юный поэт и философ унаследует трон. Как же они ошибались!
Спустя всего шесть с половиной месяцев после своего восхождения на трон он обдуманно втянул королевство в войну. Конфликт, который Фридрих столь хладнокровно начал, возник не по причине недоразумения или из-за порыва гнева молодого монарха. Напротив, это был намеренный и рассчитанный поступок человека, который тщательно взвесил все шансы. И стимулом, больше всего побудившим его сделать этот шаг, были те самые основы, на которых было выстроено прусское государство: разумная и здоровая финансовая система и армия. Благодаря строжайшим финансовым мерам его отца казначейство пухло от денег, а армия представляла собой блестяще организованную силу численностью в 80 000 человек, вымуштрованных так, как еще никогда не был вымуштрован солдат.

Прусский пехотинец
Муштра в армии была столь суровой - с поркой, избиениями и другими формами телесных наказаний, назначаемых за малейшее нарушение дисциплины или промедление в выполнении приказа, - что участие в боевых действиях воспринималось как благословенное облегчение. Ни с одним солдатом в те времена не обращались иначе, как с существом определенно более низкого класса, но отношения между невежественной, грубой, ограниченной знатью и даже еще более невежественным крестьянством, из которого и формировался рядовой состав прусской армии, были, насколько можно судить, особенно плохими. Для офицеров прусский солдат был не человеческим существом, но куском облаченной в голубой мундир глины, который следовало побоями и муштрой превратить в бесчувственного робота, неспособного к самостоятельному мышлению. («Если мои солдаты начнут думать, - заметил однажды Фридрих, - то в строю не останется ни одного».) Его собственная позиция по поводу солдат и отношений между офицерами и рядовыми заключалась в следующем: «Все, что следует дать солдату, - это привить ему чувство чести мундира, то есть высочайшее почитание своего полка, стоящего превыше всех остальных вооруженных сил в стране. Поскольку же офицеры должны будут вести его навстречу величайшим опасностям (и он не может быть ведомым чувством гордости), он должен испытывать бoльший страх перед своим собственным офицером, чем перед той опасностью, которой он подвергается».
Блестяще вымуштрованного прусского солдата, однако, не следовало транжирить без необходимости. Он был пешкой в большой военной игре и в державной политике, причем такой, которую трудно заменить. Фридрих писал: «Проливать кровь солдата, когда в этом нет необходимости, - значит бесчеловечно вести его на бойню». С другой стороны, - подобно любому хорошему генералу, он, не скупясь, бросал их в бой, когда это служило его целям, и тогда солдатская кровь текла рекой.
Как бы негуманна ни была прусская система муштровки и боевой подготовки, но на поле боя она давала большие преимущества. Тактика того времени отнюдь не поощряла личную инициативу солдата или офицера - как раз наоборот, она требовала безоговорочного повиновения воле вышестоящего командира и буквально автоматического выполнения отданного приказа. Движения по заряжанию оружия и стрельбе из него повторялись бесчисленное множество раз, пока солдат не начинал выполнять их с машиноподобной точностью при любых обстоятельствах. Маневры сомкнутым строем с акцентом на скорость передвижения и поддержание строя отрабатывались вплоть до самого дня сражения, когда сложные передвижения выполнялись уже в дыму и сумятице битвы, когда пушечные ядра косили ряды солдат, а половина офицеров и сержантов были убиты.
Прусская кавалерия - сплошь крупные мужчины на сильных и выносливых конях - была подготовлена в соответствии с воззрениями на тактику конницы, которая господствовала тогда в Европе, то есть движение сплошной конной лавиной и наступление медленной рысью, с ведением огня из пистолетов и карабинов. Это не отвечало присущему Фридриху стилю ведения боя, и после первой же своей военной кампании он переобучил своих конников маневрированию на большой скорости и атаке всеми наличными силами с саблями в руках. Использование всадниками огнестрельного оружия в седле было запрещено, а вооружение и снаряжение облегчено. Были приняты все возможные меры к тому, чтобы кавалерия могла двигаться быстрее, сохраняя в то же время установленный строй и равнение в рядах.
Современник, повествуя о том прекрасном состоянии, в которое Фридрих привел свою кавалерию, писал: «Лишь в Пруссии существует такое положение, при котором конники и их офицеры питают такую уверенность, такое мастерство в обращении со своими лошадьми, что буквально сливаются с ними и возрождают в памяти мифы о кентаврах. Лишь там можно видеть, как шестьдесят или восемьдесят эскадронов, в каждом из которых от 130 до 140 конников, маневрируют столь слаженно, что всем кавалерийским флангом можно прекрасно управлять на поле боя. Лишь здесь можно видеть, как 8000 или 10 000 кавалеристов несутся в общую атаку на расстоянии в несколько сотен ярдов и, нанеся удар, тут же останавливаются в полном порядке и немедленно приступают к следующему маневру против новой линии вражеских войск, которая только что появилась на поле боя».
Внедряя это ошеломляющее изменение в принятую тактику кавалерии, Фридрих получил полное содействие двух генералов от кавалерии, Зейдлица и Цитена, которые непосредственно и вели прусских конников от победы к победе, и совершенно дискредитировал старые методы. Другой военный автор того же времени писал: «Такого мне еще не приходилось ранее видеть, но в ходе боев на моих глазах неоднократно эскадроны, полагавшиеся на свое огнестрельное оружие, были опрокинуты и разбиты эскадронами, шедшими в атаку на скорости и не ведшими огня».
Полковник Джордж Тейлор Денисон, канадский автор, признавал в своей «Истории кавалерии»: «Еще никогда в древней или современной истории, даже в ходе войн Ганнибала или Александра Македонского, кавалерией не были совершены столь блестящие операции, которые можно было бы сравнить с деяниями конников Фридриха Великого в его последних войнах. Секрет их успеха заключался в тщательной подготовке отдельного солдата, в постоянных маневрах больших масс конницы, в доверии к сабле и в пламенной энергии, а также в тщательной расчетливости великих военачальников, командовавших ею».
Он также упоминает одну из заметок Фридриха на полях его меморандума по тактике кавалерии. «N. В. Если обнаружится, что какой-то солдат отказывается исполнять свой долг или желает сбежать, то первый же офицер или унтер-офицер, заметивший это, должен поразить его своей саблей» - целительная мера, которая сохранялась во имя поддержания дисциплины с самого начала истории и, как представляется, будет сохранена и в будущем. Один трус может увлечь за собой всю роту, а ненадежная рота может стать причиной поражения в сражении. Расправа с трусливым солдатом прямо на поле боя - это мучительное решение, которое, может статься, придется в один момент принять любому офицеру или унтер-офицеру. Бывают, однако, времена, когда людей не может удержать в строю даже страх смерти (что в значительной степени обусловливает то, почему большинство людей все-таки остаются в строю, хотя все инстинкты повелевают им бежать). В такие моменты осознание того, что впереди их, возможно, ждет почетная смерть, а позади - смерть неизбежная, причем бесчестная, удерживает их на месте.
Прусская кавалерия подразделялась на три вида: кирасиры, драгуны и гусары.
Кавалерия всегда, с начала истории, подразделялась на три более или менее обособленные группы - легкую, среднюю и тяжелую. Легкая кавалерия предназначалась для разведки, рекогносцировки и быстрых атак. Средняя, более тяжеловооруженная и лучше защищенная доспехами, все же сохраняла быстроту маневра. Тяжелая - крупные воины на больших конях, часто целиком закованные в доспехи, - была значительно медленнее, но побеждала врага шоковым ударом за счет своей массы. Во времена Фридриха Великого такое деление было усугублено еще и использованием огнестрельного оружия. Существовали кирасиры, все еще сохранявшие кирасу из наспинника и нагрудника, которые были вооружены двумя громадными пистолетами и тяжелым палашом; драгуны, как тяжелые, так и легкие, имели на вооружении короткий мушкет со штыком и саблю и были способны вести бой пешими, если того потребуют обстоятельства; конные гренадеры, чьи функции почти совпадали с функциями тяжелых драгун; гусары - легкая кавалерия - вооруженные саблей и еще более коротким мушкетом, называвшимся карабином; в некоторых частях уланы, тяжелые и легкие.

Головные уборы гусарского полка «Мертвая голова» и 2-го гусарского полка
Однако с самого начала такого многообразия видов кавалерии существовала все усиливающаяся тенденция (особенно в прусских частях) использовать легких драгун и гусар в одном строю с полками тяжелой кавалерии. Эта тенденция особенно обозначилась в течение следующего столетия, и к тому времени, когда конница исчезла с полей сражений, почти не существовало какой-либо разницы в вооружении, оснащении и использовании между кавалерийскими полками различных типов.
Кирасиры и драгуны Фридриха были сведены в полки по пять эскадронов, состоявшие из двух рот по семидесяти человек в каждой. Каждый полк насчитывал семьдесят пять офицеров и двенадцать трубачей. Гусарские полки, представлявшие собой легкую кавалерию, состояли из десяти эскадронов каждый. Строй эскадрона, принятый накануне Семилетней войны, представлял собой две шеренги, а для атаки полк формировал две линии, эскадроны в первой линии строились с небольшими интервалами, а во второй, или резервной, линии - в более свободном порядке.
Поскольку кавалеристы часто использовались небольшими группами, или пикетами, что давало большие возможности для дезертирства, кавалерия набиралась с определенным разбором, особым предпочтением пользовались сыновья благополучных фермеров или владельцев небольших земельных участков. В случае дезертирства сына его родители несли ответственность за пропажу как солдата, так и коня.
Для поддержки масс кавалерии в бою Фридрих создал первые подразделения конной артиллерии, легкие орудия, перевозимые конной тягой, и орудийные передки с верховыми пушкарями. Эта мера открыла путь для новых возможностей тактики кавалерии. В первый раз огневая мощь артиллерии соединилась с ударной мощью атакующих всадников. До этого времени атакующая кавалерия, вплоть до момента непосредственного соприкосновения с неприятелем, была открыта огню вражеской артиллерии и несла жестокие потери, сидя верхом на конях час за часом, под разящим огнем врага, не имея возможности ответить на него.
Артиллерия уже играла заметную роль в войнах XVIII столетия, и армии Фридриха имели в своем составе значительное число 3-, 6-, 12- и 24-фунтовых орудий. Фридрих также широко использовал 18-фунтовые гаубицы, которые могли посылать снаряд по навесной траектории через препятствие, например холм, и поражать войска неприятеля, скрывающиеся за ним.
Артиллерийский же снаряд, однако, хотя и появился в XVI столетии, не претерпел изменений к лучшему - да и не был способен к изменениям до такой степени, чтобы стать решающим фактором на поле боя. Разрывной заряд в нем был слишком мал, а взрыватели слишком ненадежны - до такой степени, что ядро порой взрывалось в стволе орудия или, что случалось чаще, не взрывалось вообще. Эти снаряды стали эффективными лишь с появлением орудий с нарезным стволом, стреляющим цилиндрическими снарядами с взрывателями ударного действия. Основным средством поражения была шрапнель, которая и оставалась таковой вплоть до окончания Гражданской войны в США.
Пехотные полки прусской армии состояли из двух батальонов - в каждом из них насчитывалось по восемь рот. Из последних одна рота была гренадерской. Правда, сами гранаты использовались теперь только в случае осадных действий, но особые роты, формировавшиеся из самых высоких и сильных воинов, тем не менее оставались, хотя личный состав их был вооружен мушкетами. Такая рота считалась элитной ротой полка и часто носила отличительное обмундирование или особый головной убор. Для боя батальоны формировали боевой строй по три человека в глубину.
Прусский солдат имел на вооружении металлический шомпол, хотя в то время другие армии использовали шомполы из дерева. Вес и надежность металлического шомпола давали преимущества при заряжании, но лишь в результате бесконечных тренировок прусская пехота могла делать по пять залпов в минуту, тогда как командование других армий было счастливо, если их солдатам удавалось за это же время выстрелить дважды.
Подобная четкость обращения с оружием встречалась редко в каких армиях, если вообще могла сравниться с прусской. Она достигалась только в профессиональных армиях, у долго служивших солдат, которые тратили на подобную муштру изрядную долю своей жизни. Во времена битвы при Ватерлоо мушкетный огонь британской пехоты считался самым убийственным во всем мире. Воинская подготовка требовала, чтобы британские солдаты могли заряжать мушкет и стрелять пятнадцать раз в течение трех и трех четвертей минуты - то есть четыре раза в минуту. Но даже при таком темпе стрельбы их огонь не мог сравниться со скорострельностью пруссаков Фридриха; разве что стрельба британцев была несколько более точной, поскольку английских солдат обучали прицеливаться перед тем, как нажать на спусковой крючок.
Огонь велся поротно, а не шеренгами и начинался с обоих флангов батальона. Когда командир, стоявший на фланге роты, давал команду «Огонь!», командир следующей роты командовал своим подчиненным «Готовсь!» - и так до центра. Когда давали залп две стоявшие в центре роты, фланговые уже заканчивали перезаряжать мушкеты и изготавливались к стрельбе. При наступлении каждая рота перед открытием огня продвигалась вперед на несколько шагов. Таким образом, наступление батальона складывалось из последовательных продвижений отдельных рот, медленно шагавших вперед и изрыгавших пламя и дым с трехсекундными интервалами. На расстоянии тридцати шагов от неприятельских рядов либо на большем, если передовая шеренга под градом свинца теряла строй, отдавалась команда, и солдаты шли в наступление с примкнутыми штыками.
Уже было сказано о том, что стрелковое оружие того периода, то есть до принятия на вооружение нарезного мушкета, вполне соответствовало тактике того времени. Или вернее будет сказать, что тактика того периода, как и любого другого периода истории, определялась существующим на тот момент оружием. По современным стандартам оружие это выглядело достаточно примитивным. Основным оружием пехоты был гладкоствольный мушкет. Поскольку такой вид огнестрельного оружия использовался всеми странами вплоть до второй четверти XIX века, имеет смысл подробно описать его.
Кремневое ружье, которое пришло на смену фитильному и колесцовому ружью XVII века, представляло собой, по сравнению со своими предшественниками, гораздо более эффективный механизм. Его замок был более надежен, его можно было гораздо проще обслуживать и чинить. Воспламенение заряда осуществлялось от кремня, закрепленного в державке курка, высекавшего искры при ударе кремня о стальную пластину с насечкой, называвшуюся теркой. Если ружье было правильно снаряжено, а кремень в хорошем состоянии (солдат имел запасные кремни. Британцы получали три кремня на каждые шестьдесят выстрелов) и правильно установлен, порох на затравочной полке сухой, а затравочное отверстие не забито нагаром, ружье верно служило своему владельцу.

Мушкет «Коричневая Бесс» с ударным кремневым замком
Один офицер в 1796 году жаловался на то, что «ненадежность мушкета, и в частности крышки затравочной полки его замка, приводит к тому, что солдаты называют осечкой. Они случаются столь часто, что если взять наугад любое число человек, то после десяти или двенадцати залпов вы увидите, что по крайней мере пятая часть патронов не была использована. Следовательно, один человек из пяти практически не участвовал в обстреле неприятеля. Такое мы наблюдаем каждый день во время боевых действий снова и снова; я сам неоднократно видел, как после команды «огонь» солдаты пытаются выстрелить, но тщетно…».
Если исходить из числа операций, необходимых для производства выстрела, то можно сказать, что кремневое ружье могло быть перезаряжено и изготовлено для производства нового выстрела довольно быстро; длительность этого процесса целиком зависела от подготовленности и самообладания каждого солдата в отдельности. Мушкет системы Тауэра, ставший всемирно известным под прозвищем «Коричневая Бесс», представлял собой оружие, широко распространившееся во всех армиях. Как и другие образцы современного ему оружия, он оставался практически неизменным с начала XVIII столетия. Его вес составлял одиннадцать фунтов и четыре унции, не считая веса штыка, сама же пуля сферической формы весила одну унцию. Пуля вместе с пороховым зарядом хранилась в бумажном патроне, конец которого солдат перед выстрелом откусывал и, высыпав часть пороха на затравочную полку, засыпал остальной в ствол. Затем в ствол шомполом загонялась до упора пуля. Покинув ствол, пуля следовала в том направлении, которое ей придал последний удар при вылете из дула. При такой внутренней баллистике о какой-либо точности попадания на расстоянии далее нескольких метров говорить не приходилось. Единичный человек на таком расстоянии имел довольно значительные шансы остаться в живых. На больших расстояниях точность падала столь быстро, что на рубеже в 137 метров любое попадание было просто чудом. Известный стрелок, майор британской армии в дни Войны за независимость США, писал: «Солдатский мушкет, если только его ствол должным образом просверлен и не искривлен, что бывает весьма часто, дает возможность попасть по фигуре человека на расстоянии до 73 метров - а иногда и до 91,5 метра. Но воистину исключительным неудачником будет тот солдат, который будет ранен из обычного мушкета на расстоянии 137 метров; что же до стрельбы по человеку на расстоянии 183 метра, то с таким же успехом можно стрелять по луне и надеяться попасть в нее».
Во многих отношениях это было довольно плохое оружие. Верно, что оно было надежным и простым в обращении, а поэтому являлось вполне подходящим товарищем крепкому и недалекому крестьянину, вооруженному им. Оно также представляло собой весьма удачную опору для штыка, посредством которого все еще решался исход многих сражений, но как огнестрельное оружие оно оставляло желать много лучшего.
Если солдат был снабжен оружием, эффективная дальность стрельбы которого не превышала 36,5 или 45,7 метра, то нет ничего удивительного в том, что во многие атаки он шел с незаряженным мушкетом, используя только сталь своего штыка. Существовала, однако, еще одна причина для штыковых атак. Заключается она в том, что не так-то просто воодушевить значительные массы людей до такой степени, чтобы побудить их идти в атаку под сильным огнем неприятеля, особенно если они уже побывали в бою и понесли урон от этого огня. Барабаны могут выбивать дробь, а офицеры кричать и размахивать саблями, но это не всегда может победить определенное колебание у тех, кто стоит в первой шеренге и должен сделать первый шаг. Поэтому если строй уже пришел в движение, то весьма существенно, чтобы движение это не прерывалось до тех пор, пока не произошел контакт с противником. Если первая шеренга остановится для залпа, то всегда существует вероятность того, что атака перейдет в перестрелку, и наносимый ею удар потеряет свою мощь.
Мир в войнахВозвращаясь к Фридриху, надо сказать, что в мае 1740 года умер старый Фридрих-Вильгельм и на троне оказался эссеист и поэт, обладающий великолепно вымуштрованной армией и туго набитой казной. Имелось и искушение в виде слабого соседа - причем не только слабого, но и даже не соседа, а соседки, причем прекрасной.
Когда в октябре 1740 года умер номинальный глава весьма рыхлой Священной Римской империи Карл VI, у него не было наследников мужского пола - только дочь, Мария-Терезия. Было составлено соглашение, получившее название Прагматической санкции, которое гарантировало ее наследование. Договор этот был признан всеми государствами, за исключением одной только Баварии. Фридрих, который также был связан этим весьма важным соглашением, нацелился на богатую провинцию Силезию. Он принял решение захватить ее, обосновав подобное действие весьма шаткими и полузабытыми правами. Но для пропагандистских целей эти права были извлечены из древних актов и всячески раздувались (на подобные действия король был мастером). Втайне он признавался, что «амбиции, интересы и желания подвигнуть людей говорить обо мне приблизили день, когда я решился на войну».
Король направил эрцгерцогине послание с предложением, в обмен на легализацию его претензий на отторгнутые территории, организовать оборону остальных ее владений от посягательств любой другой державы. Подобное предложение, весьма напоминающее мафиозное предложение «крыши», было с негодованием отвергнуто, и австрийцы стали готовиться к войне. Но Фридрих столь внезапно бросил тысячи своих солдат через границу Силезии, что юная эрцгерцогиня узнала об этом только тогда, когда эта ее провинция уже была захвачена. Совершенно не готовые к такому повороту событий, ее войска, расквартированные в Силезии, были быстро оттуда выведены. Захват Силезии имел далекоидущие последствия. Процитируем английского историка Макколи: «Весь мир взялся за оружие. На главу Фридриха пала вся кровь, которая была пролита в войне, яростно бушевавшей в течение многих лет и в каждом уголке света, кровь солдатских колонн при Фонтенуа, кровь горцев, павших в бойне при Куллодене. Беды, сотворенные его злой выходкой, охватили и те страны, в которых даже не слыхивали имени Пруссии; и, во имя того, чтобы он мог грабить соседние ему области, которые он обещал защищать, чернокожие люди сражались на Коромандельском берегу, а краснокожие воины снимали друг с друга скальпы у Великих озер в Северной Америке».
Редко когда карьера выдающегося генерала начиналась столь неблагоприятно, как в случае с Фридрихом. Первое большое сражение произошло у Мольвица (10 апреля 1741 года). Прусская кавалерия была тогда еще не в лучшей своей форме, которой она достигла впоследствии, поэтому удар более многочисленной австрийской конницы вытеснил ее с поля боя. Король был убежден, что бой проигран, и спешно покинул поле боя. Затем австрийская кавалерия снова атаковала, на этот раз центр прусских сил, но на доблестную прусскую пехоту под командованием бывалого ветерана, маршала Шверина, трудно было произвести впечатление какой бы то ни было кавалерией в мире. Храбрые австрийцы атаковали ее пять раз, но каждый раз мушкетный огонь отбрасывал их назад. Австрийская пехота имела не больший успех, чем кавалерия, и наконец маршал отдал своим воинам приказ перейти в атаку. Стройными рядами, под музыку своих оркестров, пруссаки двинулись на врага, и австрийцы, не выдержав, отступили, бросив девять орудий. Король, как язвительно заметил Вольтер, «покрыл себя славой - и пудрой».
Война все продолжалась. Подписывались тайные соглашения, заключались сепаратные миры, совершались вторжения, отступления и предательства. Пруссаки выиграли несколько значительных сражений - при Хотузице, Хоенфридберге и Кессельдорфе, еще выше поднявшие престиж их оружия. Кроме этого, Силезия надолго стала владением прусской короны.
В течение 11 лет (1745–1756) в Пруссии царил мир, и Фридрих получил возможность посвятить себя проблемам страны. Проектировались и возводились здания и мосты, осушались болота, развивалось сельское хозяйство, поощрялась промышленность, возродилась захиревшая Академия наук, расширялось народное просвещение. Как и можно было ожидать, большое внимание уделялось армии. Численность ее увеличилась до 160 000 человек, и к началу Семилетней войны армия представляла собой самые подготовленные и оснащенные вооруженные силы в мире.

1 - офицер-кирасир; 2 - палаш; 3 - перевязь с ташкой; 4 - кираса из простой стали рядового кирасира
Этот знаменитый конфликт, в ходе которого Пруссия не единожды оказывалась на грани уничтожения, был прямым следствием той роли, которую сыграл Фридрих в предшествующей войне. Мария-Терезия не могла забыть и простить отторжение Силезии; Франция, хотя и традиционный враг Австрии, была обеспокоена возвышением Пруссии (к тому же многие из язвительных высказываний Фридриха были направлены на мадам де Помпадур, в то время истинную правительницу Франции). Своими колкими замечаниями он не щадил и русскую царицу Елизавету; одним из ее прозвищ, данных ей, было «папская ведьма». Мария должна была вернуть себе Силезию; в обмен на помощь Франции той были обещаны австрийские владения в Нидерландах; царице должна была достаться Восточная Пруссия; Саксонии были обещаны Магдебург и Швеция с Померанией. Таким образом, Фридрих восстановил против себя все государства континента, рассчитывать же он мог только на поддержку английского флота и английских денег, поскольку Англия автоматически становилась союзником противников Франции. По сути, никогда не прекращались сражения между двумя державами в их заокеанских владениях - в Индии, Канаде и Вест-Индии.
Коварный Фридрих, не дожидаясь, пока все его противники объединятся, нанес удар первым. Оставив часть войск присматривать за русскими и шведами, он вторгся в Саксонию (в августе 1756 года), взял Дрезден и разбил австрийскую армию при Лобозице. Следующей весной он снова разбил австрийцев, начал осаждать Прагу и необдуманно нанес удар по австрийской армии, почти вдвое превосходившей его собственные силы, у Колина. Здесь король потерпел серьезное поражение - потерял около 40 процентов личного состава своей армии. После этого началась невиданная концентрация вооруженных сил различных государств с целью сокрушения Пруссии. Русские вторглись в Пруссию, заняв небольшой частью своих сил Берлин, и получили 300 000 талеров в качестве выкупа за то, что оставили его в целости и сохранности. Тем временем Фридрих, быстро маневрируя, пытался сдерживать продвижение своих противников, но в конце концов сошелся лицом к лицу с объединенной франко-австрийской армией при Росбахе.
Французы насчитывали в своих рядах около 30 000 солдат, значительно уступавших по своим боевым качествам тем, что в свое время шагали к победам под предводительством Морица Саксонского. Один из их собственных офицеров весьма недобро охарактеризовал их как «убийц, вполне заслуживающих быть изломанными на колесе», и предсказал, что при первом же выстреле они повернутся спиной к врагу и бросятся бежать с поля боя. Вполне возможно, что и 11 000 солдат австрийских войск были ничем не лучше своих коллег. Фридрих смог собрать только 21 000 воинов, но это все были испытанные ветераны, и сражаться их вел сам король.

Гусарские сабли
Битва при Росбахе (5 ноября 1757 года), одно из самых известных сражений Фридриха, состоялась на открытой равнине с двумя небольшими возвышенностями, которые едва ли можно назвать холмами. Пруссаки как раз расположились лагерем прямо перед ними, когда увидели своих противников, двигающихся крупными силами таким образом, чтобы атаковать армию короля во фланг и в тыл. Прусский лагерь был тут же поднят по тревоге, и кавалерия в количестве тридцати восьми эскадронов под командованием Зейдлица стала выдвигаться под прикрытием возвышенностей на встречу неприятелю. Пехота и артиллерия следовали за ней. Союзники, решив, что эти быстрые перемещения означают отход пруссаков, продолжили наступление уже тремя параллельными колоннами. Теперь атакующие, еще не осознавая этого, подставили пруссакам свой незащищенный фланг. Как только плотные колонны оказались перед невысокими возвышенностями, Зейддиц, чьи эскадроны поджидали неприятеля, укрывшись за холмами, неожиданно отдал им приказ атаковать, перевалив через вершины холмов. Захваченная врасплох вражеская кавалерия, шедшая во главе колонн, едва успела развернуться в боевой порядок, когда в их ряды врубилась «прусская конница, наступавшая сомкнутым строем, подобно стене, и с невероятной скоростью». После ожесточенной схватки эскадроны кавалерии союзников были отброшены и обращены в бегство. Лишившись флангового прикрытия кавалерии, плотно сбившиеся колонны пехотинцев попали под сильный огонь прусской артиллерии, а семь батальонов прусской пехоты, наступая вниз по склону, вступили в бой с передовыми полками союзников. Пехотные колонны, попав под артиллерийский огонь и залпы наступавшей прусской пехоты, стали в замешательстве отступать. Будучи не в состоянии развернуться в боевой порядок, они сбились в плотную толпу, когда Зейдлиц со своими кавалеристами ударил им в тыл. Союзные войска дрогнули и побежали, а солдаты Зейдлица провожали их мушкетными залпами в спину. Потери союзников составили 7700 человек, тогда как победители потеряли только 550 человек.
В этом сражении убедительным образом было продемонстрировано превосходство прусской военной выучки. Быстрота, с которой лагерь был поднят по тревоге и построен в колонны (в течение получаса), а также скорость, с которой передвигались пруссаки, стали большим преимуществом Фридриха. Превосходство прусской кавалерии было очевидным. Она не только выиграла первичную схватку, но и сохранила затем дисциплину в такой степени, что в любой момент была готова нанести решающий удар. Артиллерийская прислуга батареи из восемнадцати тяжелых орудий много сделала для того, чтобы сорвать все попытки колонн противника атаковать вверх по склону холмов, в чем им существенно помогла быстрота и эффективность мушкетного огня семи пехотных батальонов (единственных пехотных подразделений, принимавших участие в сражении со стороны Пруссии).
Месяцем позже состоялось сражение при Лейтене (5 декабря 1757 года), ставшее еще одним блестящим примером тактики Фридриха и отваги прусских солдат. Соотношение сил при Лейтене в еще большей степени было не в пользу короля - 33 000 против 82 000. Строй австрийских и саксонских сил был слишком растянут, но прикрыт естественными препятствиями, у союзников имелось около двухсот орудий, большей частью легких. План Фридриха заключался в том, чтобы пройти вдоль фронта вражеской армии и нанести удар по ее левому флангу, проведя предварительный отвлекающий маневр небольшими силами, который должен был выглядеть как удар по правому флангу. В соответствии с этим планом прусская армия сплоченным строем приблизилась к правому флангу австрийцев, а затем, оказавшись под прикрытием небольшой возвышенности на поле, повернула вправо, перестроилась в две колонны и быстрым шагом двинулась вдоль фронта австрийских войск. Австрийцы же, которые, как представляется, не давали себе труда отслеживать прусские маневры, по-прежнему продолжали усиливать свой правый фланг, ожидая удара по нему. Колонны пруссаков, сохраняя идеальное равнение и дистанцию, появились на их левом фланге и перестроились из маршевых колонн в боевую линию. Каждый батальон имел при себе 6-фунтовое орудие, к тому же вместе с атакующими колоннами была подтянута батарея из 10 тяжелых осадных мортир.
Теперь эти мортиры принялись своим огнем крушить засеки из поваленных стволов деревьев, которыми австрийцы укрепили свой фронт, после чего в атаку пошли прусские батальоны. Наступали они косым строем, известным со времен Эпаминонда, в этом случае батальоны шли на расстоянии пятидесяти ярдов друг от друга и таким образом, что правый фланг каждого из них был ближе к неприятелю, а левый как бы отставал. Атака эта прокатилась по австрийским позициям слева направо. Резервы австрийцев, расположенные в деревушке Лейтен, сражались отчаянно; с правого фланга австрийцев подошло подкрепление, и те сделали попытку выровнять линию фронта. Сосредоточенная здесь масса людей была столь велика, что в отдельных местах оборонявшиеся стояли по сто человек в глубину. Батальон за батальоном пруссаков шел на штурм австрийского строя, но не раньше, чем в бой были брошены резервные батальоны, деревня была наконец очищена от австрийцев. Наступление, поддерживаемое огнем тяжелых орудий, все продолжалось. Командующий австрийским левым флангом бросил всю кавалерию, сосредоточенную здесь, в отчаянной попытке отбить упорное продвижение прусской пехоты. Но сорок эскадронов прусской конницы, появившиеся из замаскированных укрытий, перехватили их ударом с фронта, во фланг и в тыл. Австрийские конники рассеялись, и торжествующие пруссаки на своих конях атаковали тылы австрийской пехоты. Когда день стал клониться к закату, австрийцы дрогнули и побежали, преследуемые кавалерией. Другие стали бросать оружие и сдаваться, армия перестала существовать как боевая сила. Потери австрийцев насчитывали до 10 000 человек, около 21 000 попали в плен, захвачено было 116 орудий, 51 знамя и тысячи телег с припасами. Как бы в придачу к этому триумфу две недели спустя Фридриху сдался Бреслау вместе с 17 000 солдат и 81 орудием.
«Сражение при Лейтене, - писал Наполеон, - являет собой шедевр марша, маневра и анализа. Одного этого было бы достаточно, чтобы обессмертить имя Фридриха и занести его в ряд величайших генералов».

Прусские гусары эпохи Фридриха Великого. Рядовой и офицер
Но непрерывные кампании измотали прусскую армию. Многие лучшие части пали на поле боя; потери в сражениях при Праге и Колине были чрезвычайно тяжелы. Такие победы, как при Цорндорфе (25 августа 1758 года), где пруссакам впервые пришлось испытать на себе стойкость и боевой дух русских, достались дорогой ценой. Наряду с победами, при Кунерсдорфе (11 августа 1759 года) Фридрих потерпел сокрушительное поражение, потеряв около 20 000 человек убитыми и ранеными (почти 50 процентов армии) и 178 орудий. Боевой дух и дисциплина в прусской армии продолжали оставаться превосходными, но ветеранов в значительной степени заменили недавно набранные воины либо солдаты вражеских государств, многие из которых после сдачи в плен были скопом приняты на службу в армию Пруссии. Хотя и слаженные в боевые подразделения строгой прусской дисциплиной, они все же не были теми воинами, которые могли бы невозмутимо идти как на параде строевым шагом под ливнем шрапнели и мушкетных пуль или вести огонь из своих мушкетов со скоростью пять выстрелов в минуту. Дисциплина, кастовый дух и вера в своих генералов частично возмещали недостаток подготовки; и хотя дезертирство, эта чума всех армий того периода, стала серьезной проблемой, командованию все же удавалось возмещать убыль рядового состава. Более того, эти войска, хотя среди рядовых в них было много новобранцев, были по-прежнему способны ходить в такие атаки, как при Торгау (3 ноября 1760 года), когда они штурмовали окопавшегося врага, имеющего шесть сотен орудий, извергавших ливень картечи по наступавшим, пока из шести тысяч гренадер в одной из колонн не осталось на ногах только шесть сотен.
Тем не менее война настолько обезлюдила страну, что к концу 1761 года прусская армия сократилась до 60 000 человек. Совершенную катастрофу предотвратила только смерть русской царицы и восшествие на престол ее наследника, германофила Петра III. Этот «достойный» монарх не только предложил заключить немедленный мир, но и вернул Фридриху Померанию, а также приказал предоставить в его распоряжение русскую армию численностью в 18 000 человек. При известии об этом из альянса тут же вышла Швеция. Саксония потерпела полное поражение, Австрия и Франция были истощены до предела. Последняя, кроме поражений на полях Европы, лишилась Канады и Индии. В 1763 году наконец был заключен мир.
Пруссия лежала в развалинах. По свидетельствам современников, четыре пятых всех мужчин, служивших за это время в армии, были убиты или ранены, а в городах осталось чуть больше половины живших в них до войны людей. Тем не менее королевство смогло пережить эту бурю и даже выйти из войны победителем. Всей мощи России, Франции, Австро-Венгрии, Швеции и Саксонии оказалось недостаточно, чтобы вырвать у прусского короля хотя бы один акр пространства его страны. Располагая силами численно несравнимо меньшими, чем его противники, он вел неравную борьбу в течение семи долгих лет. Познав горечь случайных поражений и вынужденный порой отступать, он выиграл много достославных сражений. Слава его затмила славу любого другого генерала того времени, и рабское копирование военными деятелями во всем мире всего прусского было лишь еще одним свидетельством репутации прусской армии и прусского солдата.
Солдат этот мог быть невозмутимым и лишенным воображения; ему, возможно, не хватало личной инициативы, и без твердой направляющей руки он терялся. Но у него была привычка повиноваться и врожденная стойкость, побуждающая его выполнять свой долг любой ценой. В большой степени на создание этой привычки повлияла и жестокая система прусской муштровки. Да, она была крайне жестокой, а унтер-офицеры - безжалостны и знали свое дело; но нечто большее, чем страх перед наказанием, побуждало колонны солдат идти в атаку в битве при Лейтене, с пением старого германского гимна под бой барабанов и завывание флейт, или снова и снова бросало прусских гренадеров на залитые кровью склоны холмов под Торгау.
Начало XVIII века ознаменовалось дальнейшей эволюцией военного вооружения, оказавшего огромное влияние на развитие тактики и стратегии европейских армий. Основным типом оружия стал кремневый мушкет, сменивший своего фитильного предшественника, господствовавшего в течение предыдущего столетия.
Мушкеты появились на вооружении с 1525 г. Пуля мушкета вначале весила 1/8 фунта и могла поражать на расстоянии до 600 шагов и наносила чрезвычайно тяжелые ранения. Однако стрельба была возможна только с сошки, а заряжание - чрезвычайно сложно и кропотливо. Солдату требовалось до 95 приемов, чтобы произвести выстрел. Замок первоначально был фитильным и действовал в сухую погоду без отказа, но стрелку приходилось оперировать с порохом, имея 2 зажженных фитиля - один в руке, другой - в курке, и преждевременные выстрелы и несчастные случаи бывали весьма часто. Мушкет был очень тяжел, и пехотинцы, во второй половине XVI века, стремились обзаводиться не мушкетом, а более легким ружьем.
К концу XVII века кремневое ружье усовершенствовалось. В 1699 г. был изобретен штык, позволявший соединить в руках одного пехотинца холодное и огнестрельное оружие. В 1670 г. был введен бумажный патрон, позволявший перестать размеривать количество пороха, необходимое для заряжания. Несколько позже, в 1718 г., был изобретен железный шомпол, позволявший довести скорострельность до 2-3 залпов в минуту. Длина ствола мушкета, как правило граненого, могла достигать 65 калибров, то есть около 1400 мм, при этом дульная скорость пули составляла 400-500 м/с, благодаря чему стало возможно поражение даже хорошо бронированного противника на больших расстояниях - мушкетные пули пробивали стальные кирасы на расстоянии до 200 метров. При этом прицельная дальность была невелика, порядка 50 метров по индивидуальной живой цели - но недостаток точности компенсировался ведением залпового огня.
В течение XVIII столетия мушкет был уже повсюду вытеснен кремневым ружьем, с которым велись войны XVIII-XIX веков. Основу его боевой работы составил кремневый ударный замок.
Ударный замок, несмотря на его преимущества, вытеснил фитильный и колесцовый механизмы только в первой трети XVII в., а затем повсеместно использовался в течение двух столетий.
Воспламенение пороха в кремневом замке происходит от искры, производимой подпружиненным курком с зажатым в нем кусочком кремня или пирита. Кремень должен высечь искру, ударившись о рифленую стальную крышку пороховой полки (огниво) и при этом приоткрыв ее. Искра воспламеняет небольшое количество пороха, помещенное на полку, через затравочное отверстие в стволе пламя достигнет основного порохового заряда и будет произведен выстрел.
Кремневый замок не требовалось заводить ключом, как колесцовый, он был проще и технологичнее, следовательно - дешевле. За счет облегчения процесса заряжания ружья скорострельность увеличилась до 2-3 выстрелов в минуту и более. Прусская пехота XVIII века могла делать около 5 выстрелов в минуту, а отдельные стрелки и 7 выстрелов при 6 заряжаниях. Это достигалось дополнительными усовершенствованиями замка и ружья и длительным обучением солдат.
В то же время ударно-кремневый замок был склонен к частым осечкам и потому требовал внимания и ухода. Обычные причины осечки - стертый или плохо закрепленный кремень, изношенное огниво, забитое нагаром затравочное отверстие.
Изменения в стрелковом оружии влекли за собой трансформацию военного дела в Европе. Прежде всего это сказалось на качестве вооруженных сил. С этого времени происходит четкое деление на роды и виды вооруженных сил.

В пехоте и кавалерии выделяются два вида: линейные и легкие части. В пехоте к линейным частям, действующим в линейном построении, относились мушкетеры и гренадеры.
Гренадерами назывались пехотинцы, обученные действовать гранатами, которые использовались при штурме укреплений и крепостей противника. Первые ручные гранаты были как глиняные сосуды с известью или зажигательной смесью, которые использовались с IX века. Первые гранаты также делали преимущественно из глины. В 1405 г. Конрад фон Айхштадт впервые предложил использовать для гранат чугунный корпус, а в центре порохового заряда создавать полость, которая ускоряла сгорание смеси и увеличивала вероятность дробления корпуса на осколки. Зажигалась ручная граната от фитиля, который вставлялся в деревянную пробку, затыкавшую затравочное отверстие. Такая граната могла взорваться слишком рано или слишком поздно, и во время английской Гражданской войны солдаты Кромвеля усовершенствовали устройство, привязав к фитилю в нижней части (внутри гранаты) пулю и при этом окружив фитиль вставленными в мелкие дырочки веточками, которые выполняли роль стабилизаторов. Фитиль оставался обращенным назад вплоть до удара гранаты о землю, когда пуля, продолжая по инерции движение, втягивала его внутрь гранаты. Применялись гранаты главным образом при осаде и защите крепостей, а также на море в абордажном бою. Появились также литейные, пустые шары размером (с малый мяч), а стенки в четверть дюйма, из трех долей меди с одной долею олова.
Начиная с XVII в., гранаты начинают активно использовать в полевом бою. В 1667 г. в Англии было выделено по 4 человека в роте для метания гранат; они получили название «гренадеры». В течение нескольких лет этот новый род оружия был введен в основных европейских армиях. Англичане же ввели шапки-«гренадерки», в виде высоких колпаков с медным верхом. Существует распространенное заблуждение, что такой колпак ввели из-за того, что солдатская широкополая шляпа, а затем треуголка мешала броску. На самом деле гренадер бросал гранату движением руки снизу вверх (а не через верх, как бросают современные гранаты), так что шляпа ему не могла мешать в любом случае.
В XVIII в. запальная трубка у ручных гранат была пороховая, как и у артиллерийских. Применялись также осветительные гранаты, из картона, дерева или олова, снаряженные бенгальским огнем и использовавшиеся в ночном бою. Однако по мере развития линейной тактики гранаты потеряли свое значение в полевом бою и к середине XVIII в. были сняты с вооружения полевых армий, а гренадеры превратились лишь в элитный род пехоты. Гранаты остались только на вооружении крепостных гарнизонов и во флоте. В европейских армиях, как правило, гренадеры составляли отборные роты, по одной на батальон.

Основной состав пехотного полка того времени представляли «фузилеры» (франц. fusilier - стрелок из оружия) - солдаты пехоты, вооруженные фузеей, одним из видов кремневого оружия. Например, в 1704 году в русской армии в пехотном полку насчитывалось 8 фузилерных рот. В середине XVIII века фузилерные роты были переименованы в мушкетерские.

В 40-х годах XVIII в. в отдельный вид пехоты выделяются егеря. Слово «егерь» происходит от немецкого «Jager» - охотник. Егерями называли легкую пехоту, обученную действовать как в сомкнутом, так и в рассыпном строю, в подготовке которой особое место уделялось меткой стрельбе.
По примеру пруссаков, в русской армии особые егерские команды в мушкетерских полках появились в 1761 г. по инициативе П. А. Румянцева. Они выполняли функции разведки и прикрывали фланги наступающих колонн. Во время боя снайперским огнем уничтожали вражеских офицеров, при отступлении прикрывали отход, устраивая засады и маскируясь на местности.
В 80-е гг. XVIII в. из егерских команд образовали батальоны, в 1797 г. преобразованные в полки.
В кавалерии как роде войск в течение XVIII в. также произошли изменения, разделившие ее на тяжелую, среднюю и легкую. К тяжелой кавалерии начиная с 30-х годов столетия относились кирасиры. Это был род тяжелой кавалерии, одетой в кирасы. Они появились еще в XVI веке во многих странах Европы как тяжелая кавалерия, созданная в целях компенсации малочисленности рыцарской кавалерии и одетая в относительно недорогие неполные латы, покрывавшие две трети тела - с головы до колен и называвшиеся кирасирскими, от которых к XIX веку постепенно остались только шлем и кираса. Первоначально, во время их параллельного сосуществования с рыцарями, основным вооружением кирасиров был рыцарский меч, но затем он сменился на палаш, а в некоторых армиях - на тяжелую саблю. Использовали коней тяжелых пород весом 600-700 кг.
В конце XVI века в Шотландии появился и позднее получил распространение во всей Великобритании так называемый шотландский палаш. Характерной особенностью шотландского палаша является сильно развитая гарда типа «корзины с большим количеством ветвей».
Кавалерия
Внутренняя поверхность корзины иногда обтягивалась кожей, головка могла иметь украшение в виде конских волос.
Палаш, получивший распространение в континентальных странах Западной Европы, отличается асимметричным эфесом с сильно развитой защитой руки в виде крестовины или чаши с целой системой дужек. Западноевропейский палаш развился из тяжелой кавалерийской седельной шпаги. Первые образцы палаша носили название валлонской шпаги.
В течение XVII-XVIII веков происходит постепенная унификация палашей в кавалерии европейских армий. На вооружение принимались единые образцы вооружения сначала для отдельных полков, а затем и для каждого вида кавалерии.
Кроме кирасир, палашами были вооружены и драгуны, представлявшие собой особый вид войск - так называемую «ездящую пехоту».
Слово «драгун» появилось в конце XVI в. и означало ездящего аркебузира. Тогда это был второй по распространенности после рейтара вид наемной кавалерии. К концу XVIII в. драгунами стала называться самая дешевая и массовая кавалерия.
Драгун действовал как в конном, так и в пешем строю, причем ружье применял только спешившись. Самые сильные лошади доставались кирасирам - так как таран был распространенным приемом кавалерийского боя, самые быстрые гусарам, а драгунам - оставшиеся.
Драгун верхом мог вести ближний бой, а, спешившись, поражать противника на расстоянии до 200 метров. Прочая кавалерия, вооруженная пистолетами и мушкетонами (короткими ружьями для стрельбы картечью), - только на несколько метров.

В отличие от пехоты, где почти до конца XVIII в. не употреблялись другие замки, кроме фитильного, в кавалерии уже с начала XVI в. повсеместно был принят колесцовый замок, в котором искра добывалась не ударом, как в кремневом, а трением. Колесцовый замок в отличие от кремневого имел почти закрытый механизм, следовательно, стрелять можно было и в ветер, и на скаку. Однако к 1700 году в армиях повсеместно был принят кремневый замок- как более подходящий для массового производства.
Ружье у драгун было короче и легче, чем пехотное, но в XVIII в. для унификации боеприпасов имело тот же калибр, что и у пехоты. Но калибр строго не соблюдался.
Слово «драгун» впервые является в истории в XVI в., когда французский маршал Бриссак во время оккупации Пьемонта (1550-1560) посадил на коней отборных, смелых пехотинцев, дал этому отряду название «драгуны» и употреблял его для быстрых набегов. Сражались, однако, эти драгуны пешком. Первый полководец, давший драгунам их современное значение, был Густав-Адольф. Драгунские полки, правильно организованные, появились во Франции при Людовике XIV в 1668 г. В XIX в. в Германии, Австрии, Франции и Англии около 1/3 всей конницы состояло из драгун.
В московской армии драгуны впервые появляются при Михаиле Федоровиче Романове, когда в 1631 г. из навербованных иностранцев сформирован был 1-й драгунский полк (полк «Нового (иноземного) строя»), в 1632 г. находившийся в войске Шейна под Смоленском. Затем драгуны стали пополняться русскими охочими людьми и новокрещеными из татар.
К концу царствования Алексея Михайловича драгунов было уже более 11 тыс. Эти драгуны были вооружены мушкетами, шпагами, бердышами и короткими пиками.
При Петре Великом число драгунских полков дошло до 33. При нем же учреждены в столицах и в некоторых больших городах команды полицейских драгун, просуществовавшие до 1811 г.
К легкой кавалерии в XVIII в. относились гусары. В 1458 году венгерский король Матвей Корвин (Матьяш Корш) приказал образовать новый вид кавалерии для участия в войнах с турками. Этот вид ополчения составляли дворяне. В гусары должен был идти каждый 20-й дворянин с 1/20 частью своих вооруженных людей.
После распада Венгерского королевства в 1540 г. гусары начали распространяться по Европе, а гусарские полки стали появляться в армиях других стран. В Польше первые гусарские части образовались в конце XVI в. и представляли собой отборную тяжелую кавалерию, образованную дворянами. В Австрии первые регулярные гусарские части появились в 1688 г. По австрийскому образцу гусарские войска были переняты Францией, где первый гусарский полк был образован в 1693 г. В Пруссии первоначально появились польские гусары - в 1629 г., которые состояли на королевской военной службе. При Фридрихе Великом прусские гусары заслужили всеобщую славу и известность. В Англии гусарские войска были образованы в 1806 г.

Первые гусарские «шквадроны» появились в России еще при царе Михаиле Федоровиче и состояли из вербованных немцев и поляков. О них впервые упоминается в 1634 году. В дневнике шотландца Гордона, взятого Петром I на службу, рассказывается о 3 гусарских ротах, которые принимали участие в Кожуховском походе 1694 г.
Когда Петр I сделал русскую армию регулярной, гусары из нее исчезли и появились снова в 1723 году, когда были сформированы гусарские полки из австрийских сербов. В царствование Анны Иоанновны фельдмаршал Миних вернулся к идее образовать гусарские полки. Он начал вербовать в гусары выходцев из различных стран, чтобы сделать их иррегулярными пограничными войсками. В гусары вербовали сербов, венгров, валахов, а также грузинских дворян. При правлении Анны Леопольдовны тот же Миних сформировал из всех гусар 5 гусарских полков, которые были сформированы из разноплеменной толпы авантюристов и приносили больше вреда, чем пользы. При Елизавете Петровне в России появились македонские, грузинские и сербские полки гусар.
В самом начале XVII в. были сделаны несколько существенных нововведений, расширивших возможности артиллерии. Так в конструкции орудийных лафетов стали применяться стальные оси, а клиновой механизм вертикальной наводки был заменен винтовым.
Одновременно для литья орудийных стволов стал применяться чугун. На самом деле чугун был в этом качестве хуже бронзы, и пушки делались по преимуществу из бронзы до середины XIX в. Во всяком случае - полевые пушки, требования к весу которых были наиболее жесткими. Но с распространением чугунного литья появилась возможность изготавливать массы дешевых орудий для вооружения кораблей и крепостей.
В свою очередь, совершенствование техники бронзового литья позволило отливать более прочные стволы. В полевой артиллерии кулеврины в первой половине XVII в. вытесняются пушками, чему, кстати, способствовало и применение железных осей, так как сила отдачи связана с отношением веса ствола к весу снаряда. Пушки, у которых это отношение, в сравнении с кулевринами, было меньше, скорее разрушали лафет. В течениеXVII в. материальная часть артиллерии приняла тот вид, который и сохраняла до середины XIX столетия.
Артиллерия как род войск получила в течение XVIII в. деление на полковую, полевую и осадную, согласно типу орудий, получивших распространение в ходе столетия. Также был усовершенствован такой тип орудий, как гаубица.
Полковое орудие. Идея придать каждому полку пехоты пару легких пушек, которые всегда сопровождали бы его и поддерживали огнем, принадлежит Густаву-Адольфу. Таким образом, первые полковые пушки появились в начале XVII в. в шведском королевстве.
Артиллерия
С XVII до середины XIX века полковые пушки почти не изменились. Все они имели калибр 3-6 фунтов (по чугунному ядру), или 72-94 миллиметра, стреляли ядром до 600-700 м или картечью до 300-350 метров. Ствол был обычно не длиннее 12 калибров. Полковая пушка могла делать по 3 выстрела в минуту - следовательно, стреляла много чаще чем мушкетер. На полк приходилось обычно 2, реже 4 орудия. Только в русской гвардии (Семеновском и Преображенском полках) было по 6-8 орудий. Такая ситуация возникла случайно. Во время нарвского сражения шведам досталась почти вся русская артиллерия, но Семеновский и Преображенский гвардейские полки от шведов отбились, отступили в полном порядке. Обычно полковая артиллерия составляла около 60 % всей артиллерии армии.
Шведский король Густав-Адольф некоторое время использовал в качестве полковых орудий кожаные пушки, но прочность их оказалась недостаточной, - кожа прогорала. Хотя задача уменьшения веса таким образом решалась.
Снарядом к полковым орудиям служила картечь, ядро или не применялось вовсе, или применялось в качестве исключения. Рикошеты легких ядер были непредсказуемы и неэффективны.

Полковые пушки имели калибр 3-6 фунтов (по весу чугунного ядра, 1 фунт - 409,51241 г), то есть внутренний диаметр ствола составлял 72-94 мм. В качестве боеприпасов использовались ядра, дальность стрельбы которыми достигала 600-700 м. Огонь велся также картечью, при этом дальность стрельбы была 300-350 метров. Ствол был обычно не длиннее 12 калибров. Расчет пушки мог производить до 3 выстрелов в минуту (быстрее, чем фузелер- пехотинец из ружья, который мог сделать не более двух выстрелов в минуту). На полк приходилось обычно 2, реже 4 орудия.
Полевая артиллерия. Почти все полевые пушки XVII-XIX веков в Европе имели стандартный калибр: 12 фунтов по чугунному ядру, или 120 миллиметров. Ствол имел длину
12- 18 калибров, а вся система весила в 250-350 раз больше снаряда, то есть около 1500 кг. Начальная скорость снаряда достигала 400 м/с, а максимальная дальность - 2700 м. Фактически, однако, возвышение ствола ограничивало дальность стрельбы дистанцией 800- 1000 м. Стрельба на большие расстояния не практиковалась, так как рикошеты были возможны только при стрельбе на треть максимальной дистанции. Стрельба картечью из полевых орудий велась на дистанцию до 400-500 метров. Пушка делала, как и хороший мушкетер 1-1,5 выстрела в минуту, а картечь со 150-200 метров могла пробивать кирасы.
Количество полевых орудий на 10 000 пехоты и конницы в XVII, начале XIX века составляло 10-60 штук, причем постепенно сокращалось. Число стволов заменялось маневром на поле боя. Кроме чугунного ядра и картечи, мог использоваться и зажигательный снаряд.
Полевые пушки имели калибр 12 фунтов по чугунному ядру, внутренний диаметр ствола составлял 120 миллиметров, длина - 12-18 калибров. Начальная скорость ядра доходила до 400 м/с, а максимальная дальность (расчетная 2700 м) из-за ограничения возвышения ствола была в пределах 800 -1000 м. Стрельба картечью из полевых орудий велась на дистанцию от 50 до 400-500 метров, по пологой траектории и прямой наводкой.
Гаубицы. Гаубицы - орудия, предназначенные для стрельбы по нависающим траекториям. В полевых условиях использовались легкие гаубицы калибром, по бомбе, 7-10 фунтов, или 100-125 миллиметров. В русской армии гаубицы обычно имели калибр 12-18 фунтов (до 152 миллиметров). Вплоть до начала XVIII в. гаубицы ограниченно использовались при осаде и обороне крепостей. Начиная с 1700-х их стали применять и в полевой войне. В европейских армиях XVIII-XIX веков употребляли только легкие гаубицы калибром по бомбе 7-10 фунтов, или 100-125 миллиметров. В русской армии гаубицы были распространены намного шире, обычно имели калибр 12-18 фунтов (до 152 миллиметров) и лучшую баллистику. Большим энтузиастом использования гаубиц был граф П. И. Шувалов, изобретатель «единорогов» - гаубиц с удлиненным стволом, состоявших на вооружении русской армии с середины XVIII до середины XIX века.
По замыслу самого Шувалова единороги должны были полностью заменить всю прочую артиллерию: полковую, полевую и осадную. А также морскую и крепостную. Казалось, что длинные гаубицы имеют для этого все предпосылки. Во-первых, можно было употреблять снаряды всех известных в то время видов: ядра, картечь, брандскугели и бомбы. Причем при том же собственном весе, что и пушка, единорог выстреливал в 1,5-2 раза больше картечи, более тяжелое ядро, да еще и бомбы. Во-вторых, из-за более короткого ствола стрелять можно было чаще, а из-за больших углов возвышения - еще и в 1,5 раза дальше, чем могла стрелять пушка. В-третьих, с единорогами оказывалась возможной тактика боя доселе неведомая - стрелять можно было через головы своих войск.
Характеристики единорогов: вес системы - около 150 весов снаряда (вдвое меньше, чем у пушки); начальная скорость снаряда - около 300 м/с (для ядра); дальность стрельбы
- до 1500 м (для 150 мм систем, ядром). Характеристики прусских гаубиц были скромнее: вес - около 80 весов снаряда, начальная скорость - 230 м/с (для бомбы), дальность стрельбы бомбой - 600-700 м (для 10 фунтовых).
В заключение следует отметить, что артиллерия в XVIII веке использовалась как для огневой подготовки наступления и в оборонительном бою, так и для огневой поддержки своих войск в наступлении. Поддерживая атаку своей пехоты, артиллерия передвигалась с передовыми линиями своих боевых порядков и занимала огневые позиции так, чтобы между противником и стволами орудий не было своих войск. В таком маневре использовались главным образом пушки, поскольку гаубицы для этого были слишком тяжелы. И только появление единорогов позволило артиллерии более эффективно поддерживать свою пехоту во время наступления и вести огонь по противнику, поверх голов боевых порядков своих войск, оставаясь в тылу. В целом к концу XVIII века эволюция гладкоствольной артиллерии завершилась и достигла пика своего развития как технически, так и тактически.
Армия XVIII столетия
Социальные условия Европы XVIII века, влияющие на военную систему, были тесно связаны с экономическими. Подавляющее большинство недворянского европейского населения занималось сельским хозяйством, оставшиеся были заняты в ремесленной или торговой сфере, на государственной или военной службе. Солдат рекрутировали в основном из крестьян, что резко ограничивало мобилизационные возможности любой страны в случае войны: вербовка слишком большого числа крестьян сразу же сказывалась на количестве производимой сельскохозяйственной продукции. Кроме того, свои ограничения на численность вооруженных сил накладывали и слабые мощности промышленных объектов - фабрик и мануфактур, не способных одеть и вооружить действительно крупную армию. Правда, прочие категории населения, из которых комплектовалась любая европейская армия (кроме русской), за исключением крестьян, относились к наименее производительным социальным группам. Офицеры принадлежали к дворянскому классу, а довольно большой процент солдат составляли добровольно завербовавшиеся подонки общества, бродяги, безработные.

Вербовка производилась следующим образом. Из государственной казны полковник (командир полка) получал деньги, которые он раздавал командирам рот - капитанам. Те, в свою очередь, при помощи вербовщиков, которым полагался определенный процент, проводили кампанию по набору желающих в свои отряды. К примеру, во Франции новобранец подписывал контракт сроком на четыре года. Ему платили 3 су в день. Обмундирование, оружие и питание осуществлялись за счет государства. До 1660-х годов полковники и капитаны вербовали солдат за свой счет, получая затем возмещение от казны. Это создавало массу злоупотреблений на местах, когда реальная списочная численность части не соответствовала платежной ведомости. При проверке и проведении инспекции полковники часто прибегали к услугам подставных лиц. С 1667 г. полковник назначался королем и лично отвечал перед монархом за состояние вверенной ему части.
В королевстве Пруссия проводился другой способ найма на военную службу. Принудительная вербовка стала настоящим бичом для населения страны: принцип «государство - это армия» проводился здесь в жизнь с истинно германской последовательностью. Рыскавшие по Пруссии отряды вербовщиков могли забирать под королевские знамена первого же встречного представителя «низших сословий» - крестьянина или бюргера, в том случае, если его внешние данные (прежде всего рост) отвечали требованиям строевой службы.
Еще при Фридрихе Вильгельме I было установлено правило, что только рост ниже 168 сантиметров может гарантированно избавить человека от вербовки. Фридрих Великий еще более усовершенствовал это правило, введя специальный закон, по которому крестьянский двор переходил по наследству самому малорослому из сыновей - все прочие должны были быть готовы встать в ряды армии.
Тактика ведения войны в XVIII столетии
Процедура вербовки проходила предельно просто: крестьянина, пришедшего добровольно или изловленного обманом или силой, угощали бесплатной кружкой пива «за счет Его величества» и объявляли ему, что следующую бесплатную выпивку он получит через 20 лет - при увольнении в запас по выслуге. Переодетые прусские вербовщики (их шефом был полковник Колиньон - француз на прусской службе) наводнили всю Германию. Во время Семилетней войны, когда Фридрих II Великий столкнулся с проблемой высоких потерь в рядовом составе, пруссаки придумали еще один метод вербовки - простодушным иностранцам предлагали патенты на чины лейтенантов или капитанов в том роде войск, куда только желал попасть будущий рекрут. Молодые люди с «офицерскими» патентами в кармане являлись в Магдебург, где их сразу же, без разбору, записывали в солдаты.
Линейная тактика ведения боевых действий получила развитие в связи с оснащением армий огнестрельным оружием и повышением роли огня в бою. Войска для ведения боя располагались в линию, состоявшую из нескольких шеренг (их количество определялось в зависимости от скорострельности оружия), что позволяло одновременно вести огонь из наибольшего количества ружей. Тактика войск сводилась в основном к фронтальному столкновению. Исход сражения во многом решался мощью пехотного огня.

Линейная тактика в Западной Европе зародилась в конце XVI - начале XVII веков в нидерландской пехоте, где квадратные колонны были заменены линейными построениями. Она была внедрена голландцами в лице Морица Оранского и его двоюродных братьев Вильгельма Людвига Нассау-Дилленбургского и Иоанна Нассау-Зигенского. Поднятие дисциплины в армии, а также улучшение подготовки офицеров, на что Мориц обращал особое внимание, позволили ему строить свою армию в 10, а в дальнейшем и в 6 шеренг. В русских войсках элементы линейной тактики впервые были применены в сражении при Добрыничах (1605). Полное оформление линейная тактика получила в шведской армии Густава II Адольфа в период Тридцатилетней войны (1618-1648), а затем была принята во всех европейских армиях. Этому способствовало увеличение скорострельности мушкета и усовершенствование артиллерии. Превосходство линейного боевого порядка над старым боевым порядком из колонн окончательно определилось в сражениях при Брейтенфельде (1631 г.) и Лютцене (1632 г.), но одновременно выявились и отрицательные стороны линейного боевого порядка. Это - невозможность сосредоточения превосходящих сил на решающем участке боя, способность действовать только на открытой равнинной местности, слабость флангов и трудность осуществления маневра пехоты, в силу чего решающее значение для исхода боя приобрела кавалерия. Наемные солдаты удерживались в сомкнутых линиях с помощью палочной дисциплины, а при нарушении строя убегали с поля боя. Классические формы линейная тактика получила в XVIII веке, особенно в прусской армии Фридриха-Вильгельма I, а потом и Фридриха II, который жесточайшей муштрой довел боевую скорострельность каждой линии до 4,5-5 залпов в минуту (это стало возможным после внесения новшеств в конструкцию ружья - таких, например, как односторонний шомпол). Чтобы устранить недостатки линейной тактики, Фридрих II ввел косой боевой порядок (батальоны наступали уступом), состоявший из 3 линий батальонов, имевших по 3 шеренги. Конница строилась в 3 линии. Артиллерия размещалась в интервалах между батальонами, вводились легкие орудия, двигавшиеся за кавалерией, на флангах и впереди боевого порядка. Применялось каре. Несмотря на вводимые новшества, линейная тактика войск Фридриха II продолжала оставаться шаблонной и негибкой.
Разновидность пехоты, специально предназначенная для использования линейной тактики, называлась линейной пехотой. В течение приблизительно двух веков линейная пехота составляла основную часть пехоты стран Европы.
Линейная тактика применялась также некоторыми видами конницы. В одно время тяжеловооруженная конница (рейтары, конногренадеры и кирасиры) применяла линейную тактику верхом («рейтарский строй»). Позже драгуны и уланы стали применять линейную тактику, будучи в пешем строю в обороне. Соответственно, название «линейная конница» перешло от тяжелой конницы к драгунам и уланам. Гусары в XV-XVII веках носили доспехи и часто атаковали в сомкнутом строю, однако позднее гусары превратились в легкую конницу и перестали использовать линейную тактику. Казаки никогда не применяли линейной тактики.
Тактика ведения боя была идентична во всех армиях Европы. Обычно враждующие стороны развертывали свои боевые порядки друг против друга и начинали огневой бой практически при полном отсутствии какого-либо маневра. Длиннющие линии пехоты позволяли развить по фронту огонь максимальной силы, но связывали армию, как кандалы: весь боевой порядок мог двигаться только как единое целое и только на совершенно ровной, как плац, местности медленным шагом. Всякое препятствие, встреченное на пути движения войск, могло сломать строй и привести к потере управления ими. Изменение боевого порядка и перестроение во время боя в ответ на изменение обстановки также признавалось невозможным.
Все это делало непосредственное соприкосновение армий противников и рукопашный бой крайне редким явлением: обычно неприятели останавливались на короткой дистанции и открывали друг по другу залповый огонь. Ведение ружейного огня синхронным залпом признавалось главным элементом стрелковой выучки войск: считалось, что лучше вывести из строя 50 солдат противника сразу, чем 200 в разное время (это оказывало больший моральный эффект). Все сражение при этом превращалось в унылую перестрелку, иногда продолжавшуюся несколько часов.
Штыки применялись очень редко: если одна армия начинала медленное и осторожное наступление (как уже говорилось раньше, более с боязнью сломать свой собственный строй, нежели достичь неприятельского), у ее визави всегда оказывалось более чем достаточно времени, чтобы покинуть поле боя, признав, таким образом, свое «поражение». Сражения действительно крупного масштаба с упорным рукопашным боем и большими потерями в это время происходили крайне редко.
Русская армия в XVIII веке
В 1705 г. в России была введена новая единая система комплектования армии и военного флота - рекрутская повинность. Во всех губерниях страны были устроены специальные «станции» - пункты сбора рекрутов, которые ведали набором солдат и матросов. Как правило, рекрутировался 1 новобранец с 500, реже с 300 и в исключительных случаях со 100 душ мужского пола. Первоначальное обучение рекрутов производилось непосредственно в полках, но с 1706 года вводится обучение на рекрутских станциях. Срок солдатской службы не определялся (пожизненно). Подлежащий призыву в армию мог выставить себе замену. Увольняли только полностью непригодных к службе.
Рекрутская система, установленная в русской армии, вплоть до 90-х годов XVIII в. была передовой по сравнению с системой комплектования западноевропейских армий. Последние комплектовались рядовым и даже командным составом путем вербовки, представлявшей юридически добровольный, а фактически в значительной мере принудительный наем. Эта система зачастую собирала под знамена армии деклассированные элементы общества - бродяг, беглых, преступников, дезертиров из армий других государств и т. д. - и являлась неустойчивым источником пополнения.
Важнейшим преимуществом принятой в России рекрутской системы было то, что она формировала монолитную по своему социальному и национальному составу солдатскую массу с высокими моральными качествами, присущими русскому крестьянину, которого можно было вести в бой под лозунгами защиты Отечества. Другое существенное преимущество рекрутской системы заключалось в том, что она обеспечивала государству возможность создания крупной армии и относительно доступный путь восполнения убыли личного состава из ее рядов.
Новая русская регулярная армия и создавалась по европейскому образцу. Армия делилась на дивизии и бригады, не имевшие, однако, постоянного состава. Единственной постоянной единицей в пехоте и кавалерии был полк. Пехотный полк до 1704 г. состоял из 12 рот, сведенных в два батальона, после 1704 г. - из 9 рот: 8 фузилерных и 1 гренадерской. Каждая рота состояла из 4 обер-офицеров, 10 унтер-офицеров, 140 рядовых и делилась на 4 плутонга (взвода). В каждом из плутонгов было 2 капральства. В 1708 г. в русской армии были созданы гренадерские полки, обладавшие большой огневой мощью.
Кавалерийский (драгунский) полк состоял из 10 рот, в т. ч. одной конногренадерской. Каждые две роты составляли эскадрон. В каждой роте было 3 обер-офицера, 8 унтер- офицеров и 92 драгуна.
В 1701 г. в российской армии был сформирован первый артиллерийский полк. По штату 1712 г. он состоял из 6 рот (1 бомбард ирная рота, 4 канонирские роты, 1 минерная рота) и инженерной и понтонной команд. Общая численность вооруженных сил России к 1725 г. (концу царствования Петра I) достигла 220 тыс. человек.
В 30-е годы XVIII в. в русской армии были проведены некоторые реформы, инициатором которых стал генерал-фельдмаршал Б. X. Миних. Были сформированы кирасирские полки (тяжелая кавалерия) и гусарские легко ко иные роты из выехавших в Россию грузин, венгров, валахов и сербов. На южной границе организовано Слободское казачье войско.
К середине XVIII в. русская армия насчитывала 331 тыс. человек (в т. ч. в полевых войсках- 172 тыс. чел.) Дивизии и бригады стали штатными соединениями, но имели разный состав. На период войны создавались корпуса и армии. Пехота состояла из 46 армейских, 3 гвардейских и 4 гренадерских полков, кавалерия - из 20 драгунских, 6 конно-гренадерских и 6 кирасирских полков. Появилась легкая егерская пехота, которая к концу XVIII в. насчитывала более 40 батальонов.
В кавалерии, кроме драгунских и кирасирских, были сформированы гусарские (легкоконные) полки. В 1751-1761 гг. они формировались из сербов, молдаван и валахов и носили иррегулярный характер. После ликвидации украинского Слободского казачьего войска были созданы так называемые поселенные гусарские полки из бывших слободских казаков. С 1783 г. гусарские полки стали регулярными.
XVIII в. явился одним из важнейших этапов военного дела в России, строительства российских вооруженных сил, развития отечественного военного искусства. Решить главнейшие внешнеполитические задачи государства - обеспечить национальные интересы страны, возможность всесторонних экономических и культурных связей ее с другими народами, обезопасить собственные границы - оказалось возможным лишь с помощью мощных армии и флота.
В XVIII в. завершился начавшийся еще в XVII столетии процесс формирования русской регулярной армии, был создан регулярный военно-морской флот. Этот процесс включал в себя изменения во всех сторонах военного дела. Складывается стройная структура вооруженных сил. Законодательно регламентируются принципы ведения боевых действий, боевой подготовки, порядок прохождения службы, взаимоотношений между различными органами управления, а также между военнослужащими. Вводится новый порядок комплектования и снабжения войск, создается система военного образования, получает развитие военная наука. Эти реформы шли в общем русле глубокой реорганизации государственного аппарата, связанной с развитием абсолютизма. Они подняли вооруженные силы до уровня самых высоких требований своего времени и позволили России успешно разрешать внешнеполитические задачи, а в начале XIX в. отразить нашествие «великой армии» Наполеона и его союзников.
- Полученная помощь будет использована и направлена на продолжение развития ресурса, Оплата хостинга и Домена.
Вооружение пехоты и кавалерии XVIII века Обновлено: Октябрь 27, 2016 Автором: admin
Прусский военный психоз
К осени 1806 года международная обстановка в Европе резко обострилась. Возможно, что состояние «полувойны» продолжалось бы и дольше, если бы не военный психоз в Прусском королевстве.
Во время войны Третьей коалиции в 1805 году Пруссия сохранила нейтралитет, хотя Берлин склонялся на сторону Вены и Петербурга, и уже решился выступить, но Аустерлиц заставил пруссаков передумать. Однако в 1806 году в Берлине решили, что Франция зашла слишком далеко, распространяя своё влияние в Германии. «Военная партия», возглавляемая королевой Луизой, имевшей особые отношения с русским царем Александром, вышла на первый план в Пруссии.
В Берлине в высшем свете заговорили давно забытых понятиях: «чести», «долге», «шпаге», «славе Фридриха Великого». Стали вспоминать о рыцарской доблести прусского дворянства. Королева Луиза на коне объезжала выстроенные на параде полки; офицеры обнажали шпаги и издавали воинственные кличи. Во дворе Гогенцоллернов и салонах прусских господ стали утверждать, что прусская армия самая сильная в Европе и мире, что прусские офицеры - самые храбрые, что прусские монархи - самая могущественная и доблестная династия.
Таким образом, в Пруссии воцарился самый настоящий военный психоз. Берлин, уверенный в том, что прусская армия - истинная хранительница заветов победоносного Фридриха Великого, поторопился начать войну первым, чтобы ни с кем не делить лавры победителей Бонапарта.
Объявление войны
1 октября 1806 года Берлин предъявил Наполеону ультиматум с требованием в десятидневный срок вывести французские войска из германских земель за Рейн. Срок ответа назначался на 8 октября. В Берлине не сомневались в победе. Высшее дворянство, генералитет и офицерство изо всех сил похвалялись, что проучат корсиканского выскочку. В ожидании ответа на ультиматум пруссаки щеголяли парадами с победными криками и насмешками в адрес французского императора. Прусские офицеры приходили к отелю, где располагался французский посланник и «храбро» точили свои сабли о ступени парадной лестницы. Некоторые из генералов заявляли, что война закончится в считанные дни, одним ударом (тут они не ошиблись) и сожалели, что прусская армия берет с собой на войну ружья и сабли. Мол, чтобы прогнать французов было бы достаточно только дубин. Боялись только одного, чтобы Фридрих Вильгельм III не заключил мира до военного разгрома Франции. Чтобы вдохновить солдат на героические подвиги, их водили в театр на «Валленштейна» и «Орлеанскую деву» Шиллера.
Прусский штаб рассматривал два варианта действия. Первый заключался в том, чтобы придерживаться оборонительной стратегии в начале войны и при приближении французской армии медленно отойти за Эльбу, а затем за Одер, соединиться с русскими войсками и прусскими резервами и, в конечном итоге, объединенными силами перейти в контрнаступление и дать генеральное сражение врагу. То есть в целом этот план напоминал предварительный замысел кампании 1805 года, когда австрийцы должны были дождаться русской армии и вместе обрушиться на Наполеона. Но австрийцы не стали ждать русских и самостоятельно перешли в наступление, что в итоге привело к военно-политической катастрофе Австрии и поражению третьей антифранцузской коалиции.
Прусские генералы оказались не умнее австрийских. Прусские военные считали отступление для себя позорным, и поэтому этот план был решительным образом отвергнут. В результате остановились на втором варианте. Пруссаки планировались вторгнуться в союзную Франции Баварию, обрушиться на французов на их местах базирования, разбить вражеские корпуса поодиночке и этим вынудить Наполеона к отступлению за Рейн. К этому времени к победоносной прусской армии должны были присоединиться русские войска и союзники могли продолжить наступление.
Для предстоящей войны Прусское королевство могло выставить около 180 тыс. человек. Всего за несколько дней до начала войны в прусской армии была введена дивизионная и корпусная организация. Прусская армия была сведена в 4 корпуса (14 дивизий).
Так называемый главный корпус, имевший в своем составе до 60 тыс. солдат, согласно выработанной диспозиции от 7 октября, располагался между Мерзебургом и Дорнбургом. Им руководил главнокомандующий прусской армией Карл Вильгельм Фердинанд герцог Брауншвейгский. Этот пожилой полководец (1735 г. рождения) получил боевой опыт ещё во время Семилетней войны и являлся большим приверженцем фридриховской школы. В 1792 году герцог возглавлял объединённую австро-прусскую армию, выступившую против революционной Франции, но был разбит при Вальми.
Прусский главнокомандующий Карл Вильгельм Фердинанд Брауншвейгский
2-й корпус составили 43 тыс. прусских и 20 тыс. саксонских солдат. Он располагался в районе Хемница, и возглавлял его потерявший свое княжество при создании Рейнского союза князь Фридрих Людовик Гогенлоэ. На главный и 2-й корпуса возлагалась задача атаковать французов во время их марша в Саксонию.
3-й корпус, под командованием генерала Рюхеля, в составе 27 тыс. человек располагался в районе Эйзенаха, Готы и Эрфурта. Он должен был прикрывать направление на Гессенское курфюршество, оставаясь на месте. 4-й корпус под началом принца Евгения Вюртембергского - около 25 тыс. человек - был разбросан в Восточной Пруссии, Польше и Силезии.
Тем временем французский император Наполеон, сосредоточив свои войска на реке Майн, планировал перейти Франконский и Тюрингский леса, обойти левый фланг прусско-саксонского расположения и заставить немцев принять бой с перевернутым фронтом. Для предстоящего маневра император разделил свои войска по трем колоннам, которые должны были двигаться в виде гигантского батальона каре. Правую колонну составили корпуса Сульта, Нея и баварская дивизия Вреде; центр - корпуса Бернадота, Даву, императорская гвардия, кавалерия Мюрата; левую колонну - корпуса Ланна и Ожеро. Здесь было сосредоточено почти всё ядро французской армии. Против Пруссии император выставил около 200 тыс. человек. Таким образом, Наполеон традиционно вёл дело к одному-двум решительным сражениям, которые должны были решить исход войны. Он не собирался ждать атаки противника и соединения прусских и русских войск. Так начиналась эта удивительная война.
Наполеон не стал ждать, когда хвастливое прусское воинство перейдет в наступление, он даже не стал дожидаться истечения срока ультиматума. 6 октября 1806 года в сообщении сенату и приказу по армии он объявил, что Франция вступает в войну с Пруссией. Не теряя времени, император двинулся навстречу врагу. 8 октября был отдан приказ о вторжении в союзную Пруссии Саксонию, и «Великая армия», сосредоточенная в Баварии, тремя колоннами стала переходить границу.

Наполеон в битве при Йене. Картина Ораса Верне
Прусская армия
Чтобы понять причины катастрофы, которая постигнет прусскую армию и королевство, необходимо ознакомиться с состояние прусской армии образца начала XIX в. Если армия Наполеона являлась детищем нового социально-экономического уклада, порожденного буржуазной революцией, то армии его противников отражали феодально-абсолютистский строй со слаборазвитой промышленностью и крепостническими порядками в селе. Типичный прусский солдат - это крепостной крестьянин, отданный всецело во власть дворянам-офицерам. Понятно, что такой солдат шёл на войну в силу принуждения и не хотел воевать. Военная истерия и пропаганда охватила только верхушку прусского общества и не задевала интересы широких народных масс. В то время как французский солдат шел в бой, полагая, что он защищает завоевания революции, то есть имел морально-волевое превосходство над противником (кроме русских), завербованный солдат Прусской монархии шел в бой в силу принуждения.
Только к концу наполеоновских войн ситуация изменилась: Франция была обескровлена и разочарована бесконечными войнами империи Наполеона, революционный дух угас. Утомленные солдатские массы французской армии утратили свою коллективную волю к борьбе, в то время у противников Франции, униженных французским нашествием, вызрел национально-освободительный подъем.
Армии противников Наполеона были организованы по прусскому образцу, построенному на опыте Семилетней войны с её линейной тактикой и жестокой палочной дисциплиной. Солдат и офицер прусской армии - это армейское отражение кастово-сословного деления общества. Взаимоотношения между ними были основаны на подчинении крепостного своему господину. Прусский солдат состоял на службе до тех пор, пока не погибал или становился инвалидом. Только после этого он подлежал мобилизации, причем вместо пенсии ему выдавалось особое свидетельство на право нищенства. Ничего похожего на то единство солдата и офицера, которое появилось во французской армии, где любой способный молодой человек мог стать высшим офицером и генералом, здесь не было. Прусские генералы, представители землевладельческой аристократии, были не в состоянии понять, что социально-экономические и политические сдвиги, которые произошли во Франции, навсегда отбросили фридриховскую систему в глубь . Она устарела.
Однако правительство Пруссии во главе с королем Фридрихом Вильгельмом III этого не понимало. Пожиная лавры «славного прошлого» эпохи Фридриха Великого и сохраняя старые порядки, Берлин не допускал никаких реформ. К примеру, командный состав в прусской армии засиживался на занимаемых должностях чуть ли не до естественной смерти. В 1806 году из 66 полковников прусской пехоты почти половина была старше шестидесяти лет, а из 281 майора не было никого, моложе пятидесяти. Понятно, что в этой среде трудно было найти полководцев, способных противостоять Наполеону и его плеяде блестящих генералов.
Военная теория Пруссии испытывала сильное влияние теоретика Ллойда, который придавал исключительное значение местности, культивируя «науку о выборе позиций». Основа теории Ллойда - тщательное изучение географии в поисках на местности таких позиций, которые были бы недоступны противнику и в то же время обеспечивали бы коммуникации своей армии. Удобным и выгодным позициям придавали особое значение, называя их «ключами позиций» и даже «ключами страны».
На основе опыта войны за баварское наследство 1778-1779 гг., закончившейся без сражения после длительного топтания противников на картофельных полях, теория Ллойда допускала возможность ведения войны одним маневрированием, без решительных сражений. Считалось, что зависимость противника от 5-ти переходной системы снабжения давала возможность постоянной угрозой его сообщениям вынуждать его к отступлению.
В начале XIX столетия еще большее распространение в армиях Европы получила теория Бюлова, который «усовершенствовал» идею Ллойда. Если Наполеон объектом операции считал живую силу неприятеля, то Бюлов - только вражеские магазины и обозы. Победа при помощи , по мнению Бюлова, не обещала серьезных результатов, но выход на коммуникации противника и лишение большой армии снабжения должны были приводить к полному разгрому врага. Развивая теорию маневренной стратегии, Бюлов предлагал действовать двумя группами, из которых одна притягивает на себя противника, связывая его, а другая в это время действует на его сообщениях, перехватывая их. Эта теория нашла своих сторонников и в России.
Таким образом, теория Бюлова-Ллойда была вполне в духе абсолютистских монархий. Мол, решительная битва с сильным врагом опасна по своим последствиям при преобладании наемной и навербованной армии, которая в своей массе не желает проливать кровь, и которую трудно пополнить, если она потерпит поражение, и солдаты массами будут дезертировать.
В результате до разгрома 1806 года прусская армия сохраняла основы фридриховской тактики - маневрирование в открытом поле с безупречным выполнением сложных перестроений в линейных боевых порядках. Колонна не имела места в боевом порядке прусской армии, а рассыпной строй считался рискованным (оказавшись вне присмотра командиров, насильно завербованный солдат мог дезертировать). Батальон, вооруженный гладкоствольными ружьями образца 1782 года, выстраивался в три развернутых шеренги для стрельбы залпами. Косой боевой порядок Фридриха - выдвижение путем маневрирования на поле сражения ряда уступов против одного из флангов противника - применялся как раз и навсегда установленный шаблон.
Обычный боевой порядок, принятый почти всеми армиями после Фридриха I, составлял две линии развернутых батальонов с артиллерией на флангах или перед фронтом. За обоими флангами выстраивалась конница, развернув эскадроны в 2-3 шеренги на дистанции 4-5 шагов. Крупные соединения кавалерии выстраивались в три линии эскадронов. Конница, составляя элемент общего боевого порядка, была прикована к пехоте. Система снабжения - только магазины.

Косой боевой порядок Фридриха
Толькой тяжелый урок Йены и Ауэрштедта заставил Пруссию перестроить свою армию. Эти коренные изменения связаны с фамилией Шарнхорста. В то время это был чуть ли не единственный офицер прусской армии, который понимал устарелость фридриховской системы. Еще до войны 1806 года Шарнхорст представил королю докладную записку, намечавшую реорганизацию армии, но король и его «мудрые» советники отклонили почти все предложения.
Хотя некоторые нововведения всё же ввели: пруссаки приняли корпусную и дивизионную организацию. Корпусам придавалась резервная кавалерия и артиллерия. Пехотный полк состоял из трех батальонов четырехротного состава. Кавалерийский полк состоял из 4 эскадронов, артиллерия - из пеших батарей, имевших на вооружении в основном 12-фунтовые пушки и 10-фунтовые гаубицы, и конных батарей, имевших 6-фунтовые пушки и 7-фунтовые гаубицы. Пехотные полки располагали своей артиллерией - 6-фунтовыми орудиями. Однако с реформами опоздали. Армия только начала перестройку.
Только после военного разгрома и позора, когда Пруссия была сохранена как самостоятельная держава только благодаря доброй воле Александра Павловича, уломавшего Наполеона пощадить Прусское королевство, к Шарнхорсту прислушались. Берлин взял курс на реформирование армии. Национальный подъем, охвативший широкие круги населения, способствовал созданию массовой армии, значение которой, наконец, было осознано.
Крепостнические порядки были частично отменены, отказались от системы применения телесных наказаний в армии. Тильзитским договором вооруженные силы Пруссии были сокращены до 42 тыс. человек. Однако Шарнхорст, ставший военным министром, в преддверии неизбежной войны с империей Наполеона, сумел обойти французский контроль и создать из части населения военно-обученный резерв. Он действовал путем обучения молодых людей, привлекаемых по требованию французского императора для строительства укреплений на берегу Северного моря против Англии, а также методом досрочного увольнения части солдат действительной службы и замены их новобранцами.
В дальнейшем были проведены новые реформы. После того, как «Великая армия» Наполеона погибла в России, Берлин ввёл всеобщую воинскую повинность и создал ландвер (ополчение, выставлявшееся округами в Пруссии) и ландштурм (ополчение, призываемое в случае крайней необходимости), которые обучались по воскресным и праздничным дням. Ландвер мог действовать вместе с регулярной армией. В ландштурм привлекались все мужчины, способные носить оружие, но не вошедшие ни в ландвер, ни в регулярную армию. Ландштурм предназначался, в основном, для несения тыловой службы, но использовался также для партизанской борьбы в оккупированных неприятелем областях. В ряды офицерства начали допускаться представители буржуазии. Кроме того, после 1806 года прусское командование на основе устава 1811 года, составленного при участии Клаузевица с учетом опыта наполеоновских войн, начало частично использовать французский боевой порядок - сочетание стрелковых линий с колонной. Боевой порядок бригады занимал по фронту и в глубину расстояние в 400 шагов.
Таким образом, урок 1806 года пошёл на пользу прусской армии. Армия была серьёзно усовершенствована и к моменту решающих боев с Наполеоном в 1813 году насчитывала в своих рядах 240 тыс. человек, кроме того, было 120 тыс. ландвера и ландштурм.
Продолжение следует…
Ctrl Enter
Заметили ошЫ бку Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
Англоязычные историки и популярные писатели в большинстве своем совершенно не понимают исторических особенностей вооруженных сил Бранденбурга-Пруссии. Они породили множество мифов, из которых наиболее нелепые и беспочвенные мифы относятся к прусской легкой пехоте времен Наполеоновских войн. Задача данной работы прояснить, наконец, все эти басни о “жесткой” и “устаревшей” тактике прусской армии до 1807 года, а также о “новой” тактике в 1812-1815 года.
Общепринятая точка зрения заключается в том, что опыт сражений времен Французской революции и кампании 1806 года заставили прусскую армию относиться к легкой пехоте достаточно осторожно. В действительности, легкая пехота появилась в Пруссии при Фридрихе Великом (1740-1786) и продолжала развиваться на протяжении всех последующих лет. В ходе Семилетней войны на Фридриха огромное впечатление произвели австрийская легкая пехота – пехота пограничных округов / Grenzregimenter . Прусский король захотел сформировать у себя похожие части. Опыт войны за баварское наследство (1778-1779) подтвердил эту необходимость. Было сформировано три т.н. “добровольческих полка” , а численность корпуса “пеших егерей” , вооруженных нарезным оружием, была доведена до десяти рот.
В 1787 году “добровольческие полки” переформировали в фузилерные батальоны, о чем будет рассказано .
Первоначально отношение к легкой пехоте было настороженным. Причину этого понять не сложно. “Добровольческие батальоны” периода Семилетней войны представляли собой плохо дисциплинированные банды грабителей и отличались высоким уровнем дезертирства. Аристократы не желали служить в этих частях, поэтому там приходилось ставить офицеров неблагородного происхождения. Однако уже фузилерные батальоны, сформированные на их базе, считались отборными частями, они были хорошо обучены и дисциплинированы. Возглавляли их тщательно отобранные молодые и образованные офицеры.
Вооруженные нарезным оружием егеря всегда считались ударными частями. Их профессионализм щедро вознаграждался различными привилегиями, которых не знали в пехотных полках. Первоначально они выступали в качестве колонновожатых. Численность егерей росла от небольшого отряда до полнокровного полка (1806 г.). Их набирали из числа охотников и лесничих. Они умели метко стрелять и их вооружали более точным оружием. Они являлись прирожденной легкой пехотой, предназначенной для скрытных действий в лесах. Часто егеря приобретали оружие за свой счет, их униформа была зеленого цвета, традиционного для охотников. Контраст между егерями и “добровольческими батальонами” был очень резкий, тем не менее, ко времени Наполеоновских войн они слились, положив начало прусской легкой пехоте.
Первоначально легкая пехота представляла собой совершенно особенный род войск, ничего не имеющий общего с линейной пехотой. Однако к концу XVIII века она все больше и больше превращалась в “универсальную” пехоту, то есть пехоту, способную действовать как в рассыпанном, так и сомкнутом строю. Важным шагом в этом направлении стало появление 3 марта 1787 года десяти стрелков (Schuetzen), вооруженных нарезными ружьями, в составе каждой роты пехотных полков. Это были отборные солдаты, кандидаты в унтер-офицеры. С 1788 года они получили право носить унтер-офицерские знаки различия и стоять в строю рядом с унтер-офицерами. С 5 декабря 1793 года каждый пехотный батальон получил горниста, в обязанности которого входило передавать приказы стрелкам.
Как уже было сказано выше в 1787 году были сформированы фузилерные батальоны, сформированные из трех легких полков, пяти гренадерских батальонов, 3-го батальона Лейпцигского полка (№ 3) и выборных рот гарнизонных полков. Фузилерные батальоны получили собственный строевой устав, опубликованный 24 февраля 1788 года.
Развитие стрелковых отделений в пехотных полках и фузилерных батальонов продолжалось. Вскоре в фузилерные батальонах сформировали собственные стрелковые отделения. Численность этих отделений в 1789 году довели до 22 человек. Некоторые офицеры понимали, что в линейных полках не хватает стрелков. Поэтому в 1805 году в Потсдамском гарнизоне были сформированы десять так называемых “резервных стрелковых” отделений.
Отношение к легкой пехоте в Европе продолжало оставаться двойственным. Одни считали, что в будущем именно застрельщики будут решать исход боя. Другие отдавали предпочтение консервативной тактике линейной пехоты. Как показало время, обе стороны были в чем-то правы. Действительно, легкая пехота имела нарезное оружие - оружие будущего. Однако до появления казнозарядных винтовок процесс заряжания нарезных ружей был крайне длительным. Поэтому солдаты, вооруженные нарезным оружием не могли действовать без огневой поддержки линейной пехоты. И до середины XIX века застрельщики не представляли собой самостоятельной боевой силы. Кроме того, тактика застрельщиков требовала от них высокого уровня дисциплины. При том, что армии XVIII века комплектовались рекрутами, взятыми на воинскую службу насильно, а также наемниками, солдаты были склонны дезертировать при первой же подвернувшейся возможности, а тактика застрельщиков с ее патрулями и рассыпанным строем такие возможности предоставляла в избытке. Однако в период Французской революции и Наполеоновских войн возникли массовые армии, многие солдаты которых служили не за страх, а за совесть, движимые чувством патриотизма. Кроме того, с введением всеобщей воинской повинности и появлением многочисленных армий с высоким уровнем дезертирства вполне можно было мириться. Таким образом, сложились благоприятные условия для развития легкой пехоты.
Армия Бранденбурга и Пруссии пошла по промежуточному пути, постепенно наращивая численность легкой пехоты. Личный состав для стрелковых подразделений тщательно отбирался, готовился и получал различные привилегии. Фузилеры были столь хорошо выучены, что вскоре в глазах окружающих стали выглядеть настоящими элитными частями. Хорошо обученный и имеющий хорошие перспективы солдат не станет дезертировать. В кампаниях 1793 и 1794 годов против французов в Пфальце - лесистой и холмистой части Германии - легкая пехота показала себя с лучшей стороны. Пфальц представлял собой идеальную местность для действий легкой пехоты. Кампания 1806 года, проходившая на открытой местности, развивалась по другому сценарию и легкая пехота сыграла в ней гораздо меньшую роль.
Во время Итальянской кампании Бонапарта вполне выявился еще один козырь легкой пехоты - сильное влияние большого числа выделяемых застрельщиков на боевой дух противника. Наиболее эффективной тактикой борьбы с вражескими цепями застрельщиков было использовать в рассыпном строе собственную пехоту. Обычно для этих целей выделялась треть пехотного батальона (последняя из трех шеренг). Сведенные в отдельные взвода эти солдаты могли выступать в качестве резерва батальона, прикрывать его фланги, а также образовывать цепь застрельщиков или поддерживать ее.
Подобная практика была введена в 1791 году герцогом Брауншвейгским. В 1797 году принц Гогенлоэ написал ряд правил для Инспекции Нижней Силезии, опубликованных 30 марта 1803 г. под общим названием “Об использовании третьей шеренги в качестве застрельщиков” (Vom Gebrauch des 3ten Gliedes zum Tiraillieren ). (…) Таким образом, еще до появления “цепей застрельщиков” времен Революционных войн существовала подобная практика. Поэтому непонятно, почему многие историки позволяют себе называть данную тактику прусской армии “фридриховской”, “негибкой” и “устаревшей”.
Однако прусская легкая пехота к началу Наполеоновских войн не имела достаточного военного опыта. (…)
Организация
Стрелки / Schuetzen
Приказом от 3 марта 1787 года определялось наличие в каждой роте десяти стрелков. Таким образом, в пехотном полку было 120 стрелков. С 5 мая 1793 года в каждом полку появился горнист, в задачу которого входило передавать приказы стрелкам. В декабре того же года, горнисты появились в каждом батальоне. В 1798 году численность стрелковых отделений фузилерных рот увеличили с 10 до 22 человек. 23 ноября 1806 года число стрелков в линейной пехотной роте увеличили до 20. В дальнейшем от стрелковых отделений отказались, перейдя к практике “третьей шеренги”.
В марте 1809 года был сформирован отдельный Силезский стрелковый батальон, а 20 июня 1814 года появился Гвардейский стрелковый батальон, укомплектованный добровольцами из района Нефшатель, только что присоединенного к владениям Прусской короне.
Фузилеры / Füsilier
Фузилерные батальоны появились в 1787 году. Каждый батальон состоял из четырех рот и насчитывал 19 офицеров. 48 сержантов, 13 музыкантов (в каждой роте был барабанщик и горнист, плюс батальонный горнист), 80 капралов, 440 рядовых и 40 резервистов. Вспомогательная служба батальона состояла из контроллера, батальонного квартирмейстера, четырех хирургов (в т.ч. батальонного хирурга) и оружейника. В составе батальона имелось 40 стрелков. В какой-то период каждый фузилерный батальон располагал 3-фунтовой пушкой с расчетом. Численность батальона военного времени составляла 680 рядовых и 56 нестоевых, в том числе 46 солдат обоза и четырех помощников артиллерийского расчета. Общая численность фузилерного батальона составляла 736 человек.
В 1787 году было сформировано 20 батальонов, сведенных в бригады. По состоянию на 8 апреля 1791 года структура была таковой:
1-я Магдебургская бригада: 1-й, 2-й и 5-й батальоны
2-я Магдебургская бригада: 18-й, 19-й и 20-й батальоны
Восточно-прусская бригада: 3-й, 6-й, 11-й и 12-й батальоны
Западно-прусская бригада: 4-й, 16-й и 17-й батальоны
Верхнесилезская бригада: 7-й, 8-й, 9-й и 10-й батальоны
Нижнесилезская бригада: 13-й, 14-й и 15-й батальоны
В 1795 году был сформирован еще один батальон. В 1797 году число батальонов достигло 27. Батальоны были сведены в 9 бригад, каждая из которых возглавлялась полковником и по статусу примерно соответствовала полку.
С 1797 года в составе каждого фузилерного батальона имелось по восемь саперов. Однако, в 1806 году осталось лишь 24 батальона, организованных следующим образом:
Магдебургская бригада: № 1 Кайзер-лингк, № 2 Била, № 5 Граф Ведель
Вестфальская бригада: № 18 Зоббе, № 19 Эрнест, № 20 Ивернуа
1 -я восточно-прусская бригада: № 3 Вакениц, № 6 Рембов, № 11 Берген
2-я восточно-прусская бригада: № 21 Штуттергейм, № 23 Шахтмейер, № 24 Бюлов
1 -я варшавская бригада: № 9 Борель дю Вернэ, № 12 Кнорр, № 17 Хинрикс
2-я варшавская бригада: № 4 Грейф-фенберг, № 8 Клох, № 16 Освальд
Верхнесилезская бригада: № 7 Розен, № 10 Эрихсен, № 22 Богуславский
Нижнесилезская бригада: № 13 Ра-бено, № 14 Пелет, № 15 Рюле
Вместе с номерами приведены фамилии командиров батальонов. На практике, батальоны так и называли по фамилии его командира, в то время как номер использовался лишь по формальным поводам (…)
Егеря / Jä eger
Строевая и боевая подготовка
В некоторых работах можно увидеть, что их авторы довольно смутно представляют себе, каким образом действовали застрельщики. Зато они любят сыпать терминами вроде “звенья застрельщиков”, “рассыпанный строй” и “распустить формирование”. Именно они создали миф о том, что “свободные” французские солдаты применяли тактику легкой пехоты, в то время как “забитые” солдаты “деспотических” режимов действовали только в плотном строю, чтобы исключить дезертирство. Конечно, как и в любом другом мифе, в этом мифе имеется некоторая доля правды. Однако эта доля правды погребена под кучей цветистой, поражающей воображение лжи. В действительности же любая европейская армия того времени располагала более или менее многочисленными частями легкой пехоты, действовавшими в рассыпанном строю. И главным фактором, сдерживающим развитие легкой пехоты, была не социология или политика, а недостаточно развитая технология.
Гладкоствольные кремневые ружья, заряжавшиеся со ствола, были слишком громоздки, трудны в заряжании и обладали невысокой меткостью. Поэтому сколько-нибудь значимых результатов можно было добиться лишь при массовом залпе. Кроме того, имелось множество других причин, о которых будет рассказано ниже, из-за которых застрельщикам приходилось действовать в непосредственной близости от основных сил. Чтобы наладить взаимодействие между плотным строем линейной пехоты и рассыпанным строем пехоты легкой, необходим был высокий уровень опыта командиров и подготовки личного состава.
Фридрих Великий разработал первые рекомендации по подготовке прусской легкой пехоты, опубликованные 5 декабря 1783 года. Согласно этим рекомендациям в задачу легкой пехоты входило ведение боя в населенных пунктах и лесах, действие в авангарде, арьергарде и на флангах, атака позиций противника, расположенных на возвышении, штурм артиллерийских батарей и редутов, а также охрана обозов и зимних квартир. Такая деятельность называлась “войной аванпостов” . Как уже говорилось выше, добровольческие полки были предшественниками фузилерных батальонов, передав им свои методы и способы подготовки.
Устав для фузилерных батальонов был опубликован 24 февраля 1788 года. Он сохранил свою силу вплоть до кампании 1806/07 годов и составил основу для пехотного устава 1812 года. Этот устав легкой пехоты предписывал действовать легкой пехоте, построенной в две шеренги, вместо трех, обычных для линейной пехоты. Фузилерные батальоны стреляли залпами из двух шеренг, так что первой шеренге не было необходимости вставать на колено. Двухшереножная тактика получила распространение и в линейной пехоте после введения устава 1812 года. Каждая фузилерная рота состояла из четырех дивизионов - восьми взводов. В качестве застрельщиков выступали 1-й и 8-й взводы, что составляло четверть от общей численности батальона. При необходимости их могли поддержать 5-й и 7-й взводы. Горнисты могли передавать следующие сигналы: наступать, остановиться, сплотить ряды, открыть огонь, прекратить огонь, сместиться влево, сместиться вправо, развернуть порядки, отступить, вызвать подмогу. Разумеется, больше любого устава значили опытные офицеры, которые знали, как следует вести “войну авнпостов”. И такие офицеры в прусской армии были. Офицерский корпус составляли командиры добровольческих батальонов, офицеры, имевшие опыт войны за независимость в Америке. Среди них имелись очень талантливые командиры: Йорк, Бюлов и Мюффлинг. Это были профессионалы с высоким боевым духом, которые показали свои возможности в ходе войн Французской революции.
Стрелковые отделения линейных рот получили свой устав 26 февраля 1789 года. Стрелки, вооруженные нарезным оружием и имевшие совершенно особые боевые задачи, требовали отдельной подготовки. Две недели в году стрелки практиковались в меткой стрельбе. За стрельбами наблюдали специально назначенные офицеры. Один из 12 ротных унтер-офицеров также был стрелком и вооружался нарезным мушкетом. Предполагалось, что стрелки будут действовать наподобие пеших егерей.
Основной акцент делался на меткой стрельбе и эффективном использовании особенностей местности, прежде всего леса, мелколесья, рвов, скал, посевов и др. Кроме того, стрелки могли действовать в составе пикетов и патрулей, а также охранять основные силы полка на марше. Во время атаки позиций противника стрелки выдвигались на 100 шагов вперед. В их задачу входило расстроить порядки противника перед ударом основных сил батальона. При отступлении стрелки действовали аналогичным образом.
Легкая пехота хорошо себя показала в ходе войн Революционных войн. Опыт, полученный в ходе этих войн, показал, что тактика в целом верна и нужны лишь небольшие дополнения. Эти дополнения ввел устав от 14 марта 1798 года. Вместо того, чтобы выдвигать вперед фланговые взводы, для фузилерных батальонов предписывалось выдвигать стрелковые отделения каждого взвода, что позволяло быстрее формировать линию застрельщиков. Вооруженные гладкоствольным оружием фузилеры также стали искать цель. Число стрелков в фузилерной роте довели до 22. Приказом от 18 июня 1801 года число стандартных сигналов горном достигло 20, что внесло порядок в огромное количество импровизированных сигналов, использовавшихся на практике. Хотя легкая пехота была хорошо подготовлена и представляла собой элиту прусской армии, в ходе кампании 1806 года выяснилось, что ее численность явно недостаточна. Очень часто противник одерживал победу лишь благодаря своей подавляющей численности. Эту ситуацию многие немецкие военные специалисты предвидели еще до начала кампании 1806 года и пытались предпринять какие-либо меры. На практике для усиления легкой пехоты использовали выдвижение третьей шеренги пехотных батальонов. Герцог Брауншвейгский разработал этот маневр для своего 10-го полка еще в 1791 год. Принц Гогенлоэ также увлекся этой идеей, описав ее в инструкциях для нижнесилезской инспекции в 1797 году. Гарнизоны Потсдама и Берлина также были обучены выдвигать третью шеренгу. Инструкции Гогенлоэ были опубликованы 30 марта 1803 года. Более поздние уставы содержали в себе обширные цитаты данного текста. Курфюрст Гессенский, фельдмаршал Пруссии и генерал-инспектор вестфальских полков, издал аналогичный приказ для своих частей 11 апреля 1806 года. Аналогичный приказ издал 5 октября 1805 года и король Пруссии.
Развертывание части в стрелковую цепь вовсе не означало, что все солдаты батальона выступали в роли застрельщиков. В действительности вперед выдвигалась только некоторая часть солдат, в то время как основные силы батальона сохраняли тесный строй. Главная причина, по которой невозможно было развернуть весь батальон цепью, заключалась в недостаточно развитой ружейной технологии. Оружие пехотинца в то время было слишком малоэффективно, чтобы обеспечить безопасность отдельного солдата. Слишком много времени уходило на заряжание. Даже если застрельщики действовали парами - один стреляет, другой заряжает - все равно практическая скорострельность оставляла желать много лучшего. Количество боеприпасов, которые нес один солдат, было ограничено, поэтому часто случалось, что пехотинец расходовал все патроны прежде, чем успевал нанести противнику какой-либо урон. Все это отрицательно сказывалось на боевом духе. Быстро расстреляв боекомплект солдат делался совершенно беззащитным на поле боя, а ружье выходило из строя от перегрева ствола. Наконец, дульнозарядные ружья удобнее всего заряжать стоя, поэтому пехотинцу приходилось вставать во весь рост, представляя собой удобную мишень для противника.
Цепь застрельщиков была особенно уязвима для кавалерии противника. Если кавалерии удавалось застать стрелков врасплох, то вся цепь могла быть уничтожена. Взводы и отделения застрельщиков меняли друг друга. При этом не только в бой вступали свежие солдаты, но и цепь обретала большую устойчивость. Таким образом, стрелковая цепь представляла собой составную часть пехотных порядков. Лишь в редких и исключительных случаях стрелки могли решить исход боя самостоятельно. Как правило, стрелки лишь завязывали бой, готовя дорогу для линейной пехоты.
Взводы третьей шеренги обычно действовали строем в две шеренги. Если для решения боевой задачи привлекалась вся шеренга сразу, то ее возглавлял специально подготовленный для этих целей капитан. Каждый взвод возглавлялся младшим лейтенантом и тремя унтер-офицерами. В распоряжении лейтенанта имелся горнист, который передавал солдатам различные команды. (…)
Вооружение
Среди моделей мушкетов, использовавшихся легкой пехотой, можно назвать следующие:
- Фузилерный мушкет образца 1787 года;
- Фузилерный мушкет образца 1796 года;
- “Старые” прусские нарезные ружья разных типов, в том числе образца 1796 года;
- “Новая” корпусная винтовка образца 1810 года;
- Стрелковое нарезное ружье образца 1787 года;
- Различные охотничьи ружья и карабины, нарезные и гладкоствольные.
Застрельщики третьей шеренги обычно вооружались стандартными пехотными мушкетами следующих типов:
- Образца 1782 года;
- Образца 1801 года (Нотард):
- Образца 1809 года (“новый” прусский мушкет).
Фузилеры
Первоначально фузилерные батальоны вооружались фузилерными мушкетами, но с 1808 года в батальонах стали использовать любое оружие, какое удавалось достать - сказывалась острая нехватка стрелкового оружия. Популярностью пользовались французские мушкеты Charleville, а также “новые” прусские мушкеты.
Егеря
Так как егеря набирались из числа лесничих и охотников, то они брали с собой на службу собственные охотничьи ружья, поэтому очень трудно дать сколько-нибудь полный перечень егерского вооружения. Несколько раз предпринимались попытки навести порядок: в 1744, 1796 и 1810 годах. Однако по множеству причин все попытки провалились. (…)
Важнейшее различие между винтовкой и мушкетом заключается в том, что канал винтовочного ствола имеет несколько желобков, которые придают вылетающей пуле вращение вдоль продольной оси. Благодаря этому повышается дальнобойность и кучность огня. В отличие от гладкоствольных мушкетов, нарезные винтовки имели мушку и целик. (…) Недостатком нарезных ружей была их низкая скорострельность (чтобы зарядить ружье могло потребоваться даже несколько минут), а также быстрота загрязнения канала ствола. Чтобы повысить меткость свинцовую пулу обертывали войлочным пыжом, так что пуля плотнее врезалась в бороздки. Чтобы загнать пулю в ствол, по шомполу наносили удары киянкой. После нескольких выстрелов использовали пули меньшего калибра, поскольку ствол загрязнялся. Очень быстро ружье начинало требовать тщательной прочистки. Поэтому стрелки тщательно выбирали цель, стараясь стрелять только наверняка. Несколько удачно расположенных стрелков могли выступать в роли снайперов, но удручающая скорострельность нарезных ружей не давала им шансов получить широкое распространение.
Стрелки
Стрелковые отделения в линейных и легких пехотных ротах вооружались нарезными ружьями образца 1787 года. Ружья имели мушку и целик, причем целик был откалиброван на дистанции 150 и 300 шагов. Было изготовлено около 10000 таких ружей. К стволу ружья можно было примкнуть штык. Силезские стрелковые батальоны не имели единого вооружения, многие силезские стрелки располагали лишь пехотными гладкоствольными мушкетами.
Унтер-офицеры
Теоретически унтер-офицеры вооружались нарезными карабинами. Унтер-офицеры не стреляли залпом вместе с рядовыми. Однако, на практике они обычно имели те же ружья, что и рядовые. Иногда унтер-офицеры пользовались кавалерийским огнестрельным оружием. (…)
Униформа
Фузилеры
1789-1796
Фузилеры носили темно-зеленые камзолы того же покроя, что и пехотинцы, белые жилеты, бриджи до колен, черные гетры, шляпы-каскетки с орлом, черные шейные платки и белые ремни. Цвет воротника, лацканов, манжет и пуговиц определял батальонную принадлежность.
» Таблица / » Table
| Батальон № | Прикладной цвет | Пуговицы |
| 1 | светло-зеленый / hellgrün | желтые / gelb |
| 2 | розовый / pinke | желтые / gelb |
| 3 | белый / weiß | желтые / gelb |
| 4 | голубой / hellblau | желтые / gelb |
| 5 | темно-зеленый / dunkelgrün | желтые / gelb |
| 6 | оранжевый / orange | желтые / gelb |
| 7 | розовый / pinke | белые / weiß |
| 8 | светло-зеленый / hellgrün | белые / weiß |
| 9 | соломенный / stroh | белые / weiß |
| 10 | соломенный / stroh | желтые / gelb |
| 11 | белый / weiß | белые / weiß |
| 12 | оранжевый / orange | белые / weiß |
| 13 | замшевый / sämisch | белые / weiß |
| 14 | черный / schwarz | желтые / gelb |
| 15 | замшевый / sämisch | желтые / gelb |
| 16 | черный / schwarz | белые / weiß |
| 17 | голубой / hellblau | белые / weiß |
| 18 | карминовый / karmin | желтые / gelb |
| 19 | карминовый / karmin | белые / weiß |
| 20 | темно-зеленый / dunkelgrün | белые / weiß |
У офицеров темно-зеленая, черная и карминная отделки
Была из бархата. Офицерские треуголки украшались бело-черным плюмажем, кокардой и пряжкой с маленьким орлом.
Обувь - сапоги. Солдаты вооружались фузилерными мушкетами и коротким палашом. С 1793 года темляк палаша определял принадлежность к роте: белый, темно-зеленый, оранжевый и фиолетовый. Офицеры вооружались шпагой.
1797-1807
Вместо каскеток ввели ношение треуголок с белым кантом. Батальоны отличались цветом помпона:
Белый: 2, 6, 8, 10, 14, 17, 19,21
Красный: 1,4,7,9, П. 15, 18,23
Желтый: 3,5, 12, 13, 16,20,22,24
С 24 августа 1801 года вводилось ношение цилиндрического черною войлочного кивера. Кивер украшался орлом того же цвета, что и пуговицы, плюмажем того же цвета, что помпон на треуголке и белым кантом вдоль верхней кромки,
В 1797
году появился укороченный
камзол с красной подкладкой. Воротник,
лацканы и манжеты цветные. Бригада “Курмарк”
(с 1803 года “Магдебург"
) и “Магдебург”
(с 1803
года “Вестфалия”
) имела малиновую отделку.
Бригада “Верхняя Силезия”
и “Нижняя
Силезия”
- черную отделку, 1-я и 2-я Восточно-прусские
бригады - светло-зеленую. 1-я Варшавская
бригада и оршада “Южная Пруссия”
(батальоны
№7 и 8) - голубую. 2-я Варшавская бригада (батальоны
№ 4 и 16)
- темно-зеленую. В 1800 году бригаду “Южная
Пруссия” расформировали, а ее цвета
перешли ко 2-й Варшавской бригаде (батальоны
№ 6, 8 и 16).
В 1806 году различия между батальонами осуществлялось по следующей схеме:
| Бригада | № батальона | Прикладной цвет | Пуговицы |
| “Магдебург" | 1,2,5 | кармин | желтые |
| “Вестфалия” | 18,19,20 | кармин | белые |
| 1-я “Восточная Пруссия” | 3,6, 11 | светло-зеленый | желтые |
| 2-я “Восточная Пруссия” | 21,23,24 | светло-зеленый | белые |
| 1-я “Варшавская” | 4, 8, 16 | голубой | желтые |
| 2-я “Варшавская” | 9, 12, 17 | голубой | белые |
| “Нижняя Силезия” | 13, 14, 15 | черный | желтые |
| “Верхняя Силезия” | 7, 10,22 | черный | белые |
В 1800 году солдаты силезских батальонов получили красные шейные платки, в то время как офицеры продолжали носить платки черного цвета. Белый “шемизетовый” жилет заменили на жилет зеленого цвета, который, в свою очередь, в 1801 году уступил место белой безрукавке. Длинные белые брюки носили с черными гетрами. Имелись рабочие штаны из саржи. Ремни черные, саблю подвешивали к поясному ремню, а не носили на перевязи через плечо. Офицерский китель но покрою соответствовал кителю офицера линейной пехоты, но имел фалды с красными отворотами. Белый жилет, брюки и черные сапоги дополняли офицерскую униформу. Офицерскую треуголку украшал белый плюмаж. Поверх кителя носили серебристо-черный кушак. На черной перевязи сабля с темляком. Плащ и шинель зеленого цвета.
Егеря
1789
В пешем егерском полку носили простую каскетку с зеленым плюмажем у рядовых и черным с белым кончиком у унтер-офицеров. Камзол с зелеными отворотами и манжетами, зеленый жилет, кожаны брюки и сапоги. V офицеров плюмаж белый с черным основанием, кокардой и пряжкой. В остальном униформа не изменилась со времен Фридриха Великого.
1797-1807
Появилась шляпа-треуголка с белыми и зелеными шнурами, черной кокардой и золотой пряжкой. Плюмаж остался прежним. В 1800 году ввели ношение белых матерчатых бриджей до колен и сапог с высокими голенищами. В 1802 году цвет жилета изменили с зеленого на белый. В ходе мобилизации 1805 года егеря получили длинные зеленые рабочие брюки на пуговицах. В 1806 году появился серый вариант таких брюк. Зеленый камзол сохранил красный воротник с манжетами и желтые шерстяные погоны. Отвороты зеленые. Черный бархатный шейный платок с белым галстуком. В 1806 году планировалось ввести кивер, но до начала войны этот план осуществить не удалось.
Публикация: ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ АЛЬМАНАХ Новый СОЛДАТ №213
Редактор: Киселев В.И.
Текст размещен с сокращениями (...)!
Прусская армия середины XVIII века и ее противники
«Когда кто-либо когда-нибудь захочет управлять миром, он не сумеет сделать этого только посредством гусиных перьев, но лишь в сочетании с силами армий». Так писал король Фридрих Вильгельм Прусский своему военному министру и главнокомандующему, князю Леопольду Дессаускому, и выполнению этого требования было посвящено все царствование отца Фридриха Великого. Фридрих Вильгельм поставил себе целью увеличение боевой мощи прусской армии не только путем простого увеличения ее численности, но (и главным образом) с помощью разумной организации, жесткого контроля и напряженной боевой подготовки. Все это быстро выдвинуло прусские войска на одно из первых мест в Европе. После своей смерти 31 мая 1740 года «король-солдат» оставил наследнику армию численностью 83 468 человек. Для сравнения скажем, что в соседней Саксонии, почти равной тогда по площади и количеству населения Пруссии, к тому же не в пример более богатой, армия насчитывала всего около 13 тысяч солдат и офицеров. Военная казна Прусского королевства исчислялась огромной по тем временам суммой в 8 миллионов талеров.
За все время правления Фридриха Вильгельма I прусская армия практически не имела возможности опробовать свои силы на настоящем противнике. Однако за это долгое мирное время были заложены основы (особенно по части дисциплины), которые позволили его сыну уже на полях сражений первой Силезской войны показать, что армия Пруссии - это грозная сила, с которой лучше не тягаться никому. Еще со времен «Великого курфюрста» Фридриха Вильгельма вооруженные силы королевства комплектовались наемниками, как из числа подданных Пруссии, так и из иностранцев. Рекрутские наборы, столь характерные для других европейских стран, применялись реже. Кроме того, существовала система добровольной записи на службу горожан, ил которых комплектовалась ландмилиция - подразделения «городской стражи»: ее личный состав не нес постоянной службы, а лишь время от времени проходил военные сборы на случай войны. Боевая ценность таких войск была крайне низкой, но в случае нужды вполне подходила для несения гарнизонной службы, освобождая регулярные части для боевых действий. Срок службы завербованного солдата или унтер-офицера составлял 20 лет.
Фридрих, при восшествии своем на престол, получил в наследство от отца три инструмента, позволивших ему превратить свое небольшое королевство в одно из ведущих государств Европы. Это отличный, наиболее совершенный для того времени государственно-чиновничий аппарат, богатейшая казна без каких-либо долгов и первоклассная армия. Фридрих Вильгельм I сумел так наладить управление государством, что небольшое Прусское королевство располагало вооруженным силами, сопоставимыми с армией любой крупной державы Европы - Австрии, России или Франции.
Военно-морского флота в Пруссии, как такового, не было. Военная доктрина Гогенцоллернов никогда до конца XIX века не основывалась на морской мощи. Единственное исключение составлял курфюрст Фридрих Вильгельм Великий, который попытался начать строительство собственного флота в померанском Штральзунде и даже сформировал эскадру в 12 вымпелов примерно с 200 орудиями на борту. Однако красным орлам Бранденбурга не суждено было воспарить над морем. Тогдашние хозяева Балтики - шведы быстро пресекли эту попытку, высадившись на вражеском берегу, захватив Штральзунд (и присоединив его, кстати, к своим владениям в Померании) и пустив на дно всю курфюрстовскую эскадру.
Фридрих тоже не проявлял никакого интереса к военно-морскому флоту. Впрочем, у него на это имелись все основания. В конце XVII - начале XVIII веков на Балтике безраздельно господствовал могучий шведский флот, а со времен Петра I его надолго сменил русский. К этому надо добавить еще и довольно крупный датский военно-морской флот. В этих условиях небольшая Пруссия, не имевшая к тому же никаких традиций кораблестроения и мореплавания, просто не могла создать приемлемого по размерам военного флота, чтобы противостоять любому из этих врагов. Поэтому пруссаки просто сделали вид, что Балтийского моря не существует, и оказались правы - русские и шведские корабли так и не смогли оказать существенного влияния на ход войны, ограничившись высадкой ряда десантов. Осада русскими приморского Кольберга при помощи флота проваливалась дважды, а в третий раз Румянцев взял бы его и без поддержки моряков.
* * *Тезис «государство для армии, а не армия для государства» в царствование Фридриха II получил наиболее полное отражение в действительности. Король прусский много сделал для поднятия престижа военной (разумеется, имеется в виду офицерская) службы. В своем «Политическом завещании» 1752 года Фридрих писал, что «о военных следует говорить с таким же священным благоговением, с каким священники говорят о божественном откровении».
Главные должности как в гражданской, так и в военной службе доверялись только представителям дворянства. Офицерами в армии могли быть только родовые дворяне, представители буржуазии в офицерский корпус не допускались. Офицерский чин позволял жить достаточно безбедно - капитан в пехотном полку получал 1500 талеров в год, весьма большую сумму по тем временам.
Военное училище представляло собой кадетский пехотный батальон, при котором имелась кавалерийская рота. Как уже говорилось, в кадеты зачислялись только отпрыски потомственных дворянских семей. Хотя в Пруссии большинство офицерского корпуса составляли подданные королевства, среди офицеров встречались и наемники из-за границы, в основном из протестантских северо-германских земель, Дании и Швеции. Офицеров, не получивших военного образования, в армию не брали, при назначении на более высокую должность происхождение и знатность не имели никакого значения - о практике покупки должностей, фактически узаконенной во Франции, в Пруссии и не слыхивали. Обучение в кадетском корпусе продолжалось 2 года; курсантов беспощадно муштровали и натаскивали в соответствии с обычной прусской строгостью: там были и фрунтовые эволюции, и экзерциции с ружьем, и все прочее, через что проходили и рядовые солдаты.
Закончивший корпус кадет выпускался в полк со званием прапорщика (Fahnrich) либо лейтенанта (Leutnant); в кавалерии - корнета (Cornett). Далее в прусской военной табели о рангах следовали чины старшего лейтенанта (Oberleutnant), капитана (Hauptmann); в кавалерии - ротмистра (Rittmeister), майора (Major), подполковника (Oberstleutnant) и полковника (Oberst). Капитан и майор могли быть старшими или младшими - старшие командовали лейб-ротой в батальоне или отдельным батальоном . Далее шли чины генерал-майора (Generalmajor) - также старшего или младшего, в зависимости от занимаемой должности, генерал-лейтенанта (Generalleutnant), генерала от инфантерии, кавалерии или артиллерии и, наконец, генерал-фельдмаршала (Generalfeldmarschall). Следует отметить, что в коннице чин фельдмаршала обычно не присваивался - высшим званием был генерал от кавалерии.
Кроме окончания кадетского корпуса, молодой дворянин по достижении возраста 14–16 лет мог поступить в полк юнкером, где занимал унтер-офицерскую должность. В полку он нес обычную строевую службу нижнего чина (особенно часто юнкера служили знаменосцами), однако, кроме того, обязан был посещать офицерские курсы по тактике и прочим премудростям военной науки. Успеваемость на этих курсах и характеристика командира полка (оценка поведения и т. п.) выступала единственным критерием их длительности (от года - полутора до десяти-пятнадцати). Так, перед Семилетней войной на смотре одного из полков Фридрих II заметил в строю «уже довольно возмужалого» юнкера. Он спросил командира полка о возрасте и службе молодого человека и узнал, что тому уже двадцать седьмой год и что он уже девять лет на службе.
Отчего же он до сих пор не представлен в офицеры? - спросил король. - Верно, шалун и лентяй?
О нет. Ваше величество, - ответил командир. - Напротив, он примерного поведения, отлично знает свое дело и весьма хорошо учился.
Так отчего же он не представлен?
Ваше величество, он слишком беден и не в состоянии содержать себя прилично офицерскому званию.
Какой вздор! - воскликнул Фридрих. - Беден! Об этом следовало мне доложить, а не обходить чином достойного человека. Я сам позабочусь об его содержании; чтоб он завтра же был представлен в офицеры.
С этого времени вчерашний юнкер поступил под королевскую опеку, впоследствии став отличным генералом.
Кони в свойственном ему аффектированном духе так писал об этом: «Постигая человеческое сердце, Фридрих избрал честь рычагом для своей армии. Это чувство старался он развивать в своих воинах всеми возможными средствами, зная, что оно ближе всего граничит с воодушевлением и способно на всякое самопожертвование. Военное звание (после Семилетней войны) получило новые привилегии в гражданском быту Пруссии. Почти исключительно одни дворяне производились в офицерские чины; преимущество рождения должно было вознаграждаться и всеми почестями военной службы. При этом король имел в виду и ту, и другую полезную цель; слава прусского оружия была слишком заманчива; многие из гражданского сословия поступали в полки в надежде на возвышение; оттого в королевстве умножался класс дворян, почитавший унижением каждое другое занятие, кроме государственной службы, а прочие полезные сословия уменьшались (усердная служба в армии или чиновничьем аппарате давала шансы на приобретение потомственного или личного дворянства). По новому постановлению переход сделался невозможным и „башмачник оставался при своей колодке“, как говорит немецкая пословица. Каждый член общества не выходил из своего круга, в котором рожден, и следовал своему призванию, не увлекаясь мечтами честолюбия, всегда пагубного для людей среднего сословия» (Кони Ф. Фридрих Великий. Ростов н/Д: Феникс, 1997. С. 498) .
Комментировать данный образчик позднего феодализма я не буду, однако замечу, что правила эти впоследствии сыграли с Пруссией весьма злую шутку.
Однако этот кастовый принцип, в общем-то вполне традиционный для тогдашней Европы, несколько отличался от порядков в других странах: предоставив дворянам такие привилегии, Фридрих требовал, чтобы «это сословие отличалось и благородством своих действий, чтобы честь руководила им во всех случаях жизни и чтобы оно было свободно от всех видов своекорыстия». Характерно, что преступление дворянина по прусским законам наказывалось строже, чем таковое же у крестьянина. В массе источников повторяется случай, когда за одного лейтенанта, посланного за границу со значительной суммой (для закупки ремонтных лошадей), прокутившего ее в карты и соответственно осужденного на три года тюрьмы, пришли просить два близких королю генерала. Они сказали королю, что осужденный - их близкий родственник и позор, следовательно, падет на всю их фамилию.
Так он ваш близкий родственник? - спросил король.
Так точно, Ваше величество, - ответил один из генералов. - Он мой родной племянник и со смерти отца до самого вступления в полк воспитывался у меня в доме.
Право! Так он тебе близок! И притом еще воспитан таким честным и благородным человеком. Да! Это дает делу другой вид: приговор надо изменить. Я прикажу содержать его в тюрьме до тех пор, пока я уверюсь, что он совершенно исправился.
Поверьте мне, если человек из такой фамилии и при таком воспитании способен на преступление, хлопотать о нем не стоит: он совершенно испорчен и на исправление его надежды нет.
Несмотря на все эти ограничения, Фридрих допускал и прямо противоположные шаги: представители «третьего сословия», отличавшиеся храбростью и служебным рвением, иногда производились в офицеры, в то время как нерадивые офицеры-дворяне могли десятилетиями служить безо всякого продвижения по службе. Известен случай, когда один из видных сановников Пруссии письменно попросил короля о производстве его сына в офицеры. Фридрих на это ответил: «Графское достоинство не дает никаких прав по службе. Если ваш сын ищет повышений, то пусть изучает свое дело. Молодые графы, которые ничему не учатся и ничего не делают, во всех странах мира почитаются невеждами. Если же граф хочет быть чем-то на свете и принести пользу отечеству, то не должен надеяться на свой род и титулы, потому что это пустяки, а иметь личные достоинства, которые одни доставляют чины и почести».
При этом общеобразовательный уровень прусского офицерства был крайне низким: многие отцы дворянских семейств полагали, что страх перед розгой учителя помешает мальчикам стать хорошими солдатами. Например, военный министр фельдмаршал Леопольд Дессауский запрещал сыну учиться, чтобы «посмотреть, какой результат получится, если предоставить дело одной природе», а сам Фридрих еще в бытность свою кронпринцем едва не был проклят отцом за «пристрастие к французской науке». Правда, справедливость требует указать, что в России ситуация была схожей.
Фридрих страшно не любил, когда его офицеры занимались посторонними делами, в особенности охотой, картами и писанием стихов. Требовательный к себе и аскетичный до скаредности, он ожидал и требовал того же от подчиненных. Известно, что король вставал в четыре утра, после чего играл на флейте и разрабатывал планы, с восьми до десяти писал, после чего до двенадцати занимался муштровкой войск. Ходивший в протертом до дыр мундире, «закиданном табаком», он терпеть не мог, когда богатые офицеры проматывали деньги, украшали себя всевозможными побрякушками, завитыми париками и умащали духами. «Это прилично женщинам и куклам, которыми они играют, а не солдату, посвятившему себя защите отечества и всем тягостям походов, - говорил он. - Франты храбры только на паркете, а от пушки прячутся, потому что она часто портит прическу» (не правда ли, очень похоже на суворовское «Пудра не порох, букли не пушки, коса не тесак…», которое у нас традиционно любят противопоставлять «пруссачине»?). Часто Фридрих вычеркивал таких офицеров из списков на представление к очередным чинам.
Зато он охотно помогал бедным офицерам деньгами на приобретение обмундирования и прочие «околослужебные нужды». Хорошо известным стал случай, когда королю написала вдова одного из прусских офицеров, погибшего в бою, с просьбой о назначении положенной законом пенсии (как сейчас говорят, «по утрате кормильца»). Вдова сообщала, что страдает неизлечимой болезнью, а ее дочери «принуждены доставать себе пропитание трудами рук своих», но что они слабого сложения и потому она страшится за их здоровье и жизнь. «А без них, - добавляла она, - я должна умереть с голоду! Прошу Ваше величество о скорой помощи!»
Экономный до скаредности Фридрих навел справки и выяснил, что свободных пенсий в государстве сейчас нет и не имеется никакой возможности отступить от установленного им самим количества «пенсионов». Однако король, подумав, ответил просительнице: «Сердечно сожалею о Вашей бедности и о печальном положении Вашего семейства. Для чего Вы давно уже не отнеслись ко мне? Теперь нет ни одной вакантной пенсии, но я обязан Вам помочь, потому что муж Ваш был честный человек и потеря его для меня очень прискорбна. С завтрашнего дня я прикажу уничтожить у моего вседневного стола одно блюдо; это составит в год 365 талеров, которые прошу Вас принять предварительно, пока очистится первая вакансия на пенсион».
Известен также случай, когда король произвел в полковники выслужившегося из солдат и неоднократно отличившегося в сражениях ротмистра только за то, что тот во время обеда у Фридриха с гордостью сказал: «Мой отец простой и бедный крестьянин, но я не променяю его ни на кого на свете». Король на это воскликнул: «Умно и благородно! Ты верен Божьей заповеди, и Божья заповедь верна в отношении к тебе. Поздравляю тебя полковником, а отца твоего с пенсией. Кланяйся ему от меня».
Однако все эти «демократические» изыски разом заканчивались, когда дело касалось нижних чинов.
Армия Фридриха Великого строилась на принципе жесточайшего подчинения младшего старшему. Это закреплялось железными правилами уставов и наставлений, регламентирующих буквально каждую минуту жизни солдат. Палка в прусской армии играла гораздо большую, если не наиглавнейшую роль, нежели в войсках любой другой европейской страны. Во фридриховском «Наставлении» для кавалерийских полков (1743) одним из главных тезисов стало правило «Чтобы ни один человек не смел открывать рта, когда говорит его командир». Даже младшие офицеры не имели права никоим образом влиять на решения своего командира или уж тем более спорить с ним.
В прусской военной системе «бездушной и жестокой муштры» со всей остротой нашли отражение пороки феодального общества: дворянин, выступавший в роли офицера, поддерживал свое господствующее положение с помощью палочной дисциплины, а затем требовал беспрекословного послушания крестьянина в своем поместье. Главной целью прусского устава было убить в рядовом всякую самостоятельность и сделать из него совершенный автомат. Взяв человека от сохи, одевали его в совершенно чуждую ему и крайне неудобную одежду, затем принимались за его выучку, дабы сделать из «подлого и неловкого мужика» (как сказано в тогдашнем прусском уставе) настоящего солдата .
Армия Фридриха II, состоявшая преимущественно из наемников и державшаяся на жесточайшей палочной дисциплине, муштре, мелочной регламентации, была превращена прусским королем в превосходно отлаженный военный механизм. «Секрет» действия этого механизма Фридрих с присущей ему «откровенностью» объяснил такими словами: «Идя вперед, мой солдат наполовину рискует жизнью, идя назад, он теряет ее наверняка».
Любовь солдат к своему полководцу, армейское братство, чувство товарищества были совершенно чужды прусской армии. Одним из главных «рычагов», с помощью которых Фридрих руководил войсками, был страх. «Самое для меня загадочное, - сказал как-то Фридрих приближенному генералу Вернеру, - это наша с вами безопасность среди нашего лагеря». Превращение рядового солдата в «механизм, артикулом предусмотренный» - одно из бесспорных и зловещих достижений военной школы Фридриха Великого .
Естественно, что эта сторона «гения» прусского короля вызывала у многих неприятие его образа действий, критику милитаристской монархии Фридриха в целом. Часто цитируется изречение известного итальянского поэта Альфиери, посетившего Пруссию в период правления Фридриха II и назвавшего Берлин «омерзительной огромной казармой», а всю Пруссию «с ее тысячами наемных солдат - одной колоссальной гауптвахтой». Это наблюдение было весьма верным: к концу правления Фридриха II по сравнению с 1740 годом его армия выросла более чем в два раза (до 195–200 тысяч солдат и офицеров), а на ее содержание уходило две трети государственного бюджета. На крестьян и другие недворянские классы и слои народа возлагались расходы на содержание военного и гражданского аппарата управления. Чтобы увеличить поступление акциза, в сельской местности было почти повсеместно запрещено занятие ремеслом. Горожане же несли повинность по расквартированию солдат и выплачивали налоги. Все это позволило содержать армию, считавшуюся одной из сильнейших в Европе, но милитаризовало страну сверх всяких разумных пределов.
Милитаризация общественной жизни в Пруссии вела к дальнейшему укреплению господствующих позиций юнкерства. Офицеры во все больших масштабах пополняли ряды высших государственных служащих, насаждая военный образ мышления и действий в сфере гражданской администрации. Все это, как я уже упоминал, создавало крайне непривлекательный имидж страны в глазах иностранцев.
Однако, постоянно говоря о бездушности военной системы «Старого Фрица», обычно забывают о том, что жесточайшая муштра, как это ни парадоксально, соседствовала в ней с проявлением довольно высокой степени заботы о личном составе. Пруссаки одними из первых начали организованный сбор раненых на поле боя; хотя русские в этом плане и опередили их, но для всех прочих европейских армий это понятие было совершенно неизвестно. Во время маршей Фридрих нередко бросал обозы с ранеными ради сохранения мобильности армии (в частности, так погиб раненый генерал Манштейн: брошенный армией госпиталь с небольшим прикрытием атаковали австрийские гусары и всех, кто оказывал сопротивление, перебили). Но во всех прочих случаях старался выручать своих солдат. Так, во второй Силезской войне, чтобы спасти находившийся в Будвейсе госпиталь с 300 ранеными, Фридрих пожертвовал отрядом в 3000 человек.
В прусской армии, даже в период самой тяжелой борьбы с врагом, традиционно невысокими были потери от небоевых причин: болезней и особенно голода. Это хорошо видно в сравнении с ситуацией в русской армии петровского, анненского и елизаветинского периода, где массовые смерти среди солдат рассматривались как нечто, быть может, и досадное, но вполне допустимое и не требующее принятия срочных мер. Медицинский уход и пищевое довольствие в русской армии того времени были ниже всякой критики. Крайне малоизвестным у нас является следующее выказывание короля Фридриха, содержащееся в его знаменитом «Наставлении»: «Надобно содержать солдата во всегдашней строгости и неусыпно следить за тем, чтобы он всегда был хорошо одет и вдоволь накормлен».
Несмотря на то что Фридрихом во всех этих начинаниях руководило вполне прагматичное желание уменьшить невозвратные потери своей небольшой армии, по-моему, важна здесь не причина, а следствие. Русским солдатам, подчеркну еще раз, все это было совершенно неизвестно. Вот свидетельство очевидца миниховского похода в Валахию и Молдавию в 1738 году, капитана Парадиза: «При моем отъезде из армии было более 10 000 больных; их перевозили на телегах как попало, складывая по 4, по 5 человек на такую повозку, где может лечь едва двое. Уход за больными невелик; нет искусных хирургов, всякий ученик, призежающий сюда, тотчас определялся полковым лекарем…» И это при том, что весь армейский обоз был просто чудовищным по своим размерам: «Майоры имеют по 30 телег, кроме заводных лошадей… есть такие сержанты в гвардии, у которых было 16 возов…»
Как же, скажет кто-нибудь, ведь это было при Минихе, дескать, чего от него еще ждать. Но нет, во время похода 1757 года русская армия, не сделав еще ни одного выстрела, потеряла до одной пятой личного состава больными и умершими. Главком Апраксин заставил солдат во время трудного марша соблюдать требования великого поста, а на обратном пути еще и бросил обозы с 15 тысячами раненых, которые попали в руки пруссаков. Впрочем, об этом будет подробнее сказано ниже.
При этом Фридрих унаследовал у своего отца многие черты, весьма странные для своего высокого королевского сана. В общении с офицерами и солдатами он производил скорее впечатление грубоватого и фамильярного служаки-полковника, чем венценосной особы. Собственно, по этой причине армия и именовала его «Старым Фрицем».
Известен случай, когда в 1752 году несколько десятков солдат гвардейских полков составили заговор с целью вытребовать себе некоторые льготы и права. Для этого они отправились прямо во дворец Сан-Суси, где находился король. Фридрих заметил их издали и, угадав их намерения по громким голосам, пошел навстречу бунтовщикам с надвинутой на глаза шляпой и поднятой шпагой (отметим, что караулы в местах расположения короля всегда носили скорее символический характер и сейчас вряд ли могли помочь ему). Несколько солдат отделились от толпы и один из них, дерзко выступив вперед, хотел передать Фридриху их требования. Однако прежде, чем тот открыл рот, король рявкнул: «Стой! Равняйсь!» Рота немедленно построилась, после чего Фридрих скомандовал: «Смирно! Налево кругом! Шагом марш!» Незадачливые бунтовщики, устрашенные свирепым взглядом короля, молча повиновались и строевым шагом вышли из дворцового парка, радуясь, что так дешево отделались.
Да, действительно, Фридрих весьма пренебрежительно относился к вопросам жизни и смерти рядовых солдат. Но стоит ли этому удивляться? Войны XVIII века были «спортом королей», и солдаты играли в них лишь роль бессловесных статистов, оловянных игрушек, которых можно было при желании выстроить стройными рядами, а при желании - спрятать в короб-ку (другой вопрос, что король Пруссии сплошь и рядом ходил в атаку под пулями рядом со столь «презираемыми» им рядовыми). И потом, у Фридриха были причины с недоверием, а порой и жестокостью относиться к личному составу своих полков: вспомним, из кого во многом состояла прусская армия - из чужестранцев-наемников, завербованных порой насильно - «за кружку пива». Под конец Семилетней войны под ружье стали ставить даже только что взятых военнопленных, что, разумеется, не добавило пруссакам чувства доверия к своим вновь обретенным солдатам.
Я не вполне уверен, что у Фридриха, было излишне много причин жалеть жизни своего весьма разношерстного воинства, но вот государь император Петр Великий, например, положил жизни десятков тысяч своих переодетых в солдатскую форму мужичков на алтарь победы в Северной войне с еще меньшим сожалением, и никто почему-то всерьез не ругает его за это.
Интересно, что сам Фридрих (как это вообще было свойственно его натуре) на словах и особенно в своих письменных трудах всячески порицал им же самим введенный принцип насаждения дисциплины. «Солдаты - мои люди и граждане, - говорил он, - и я хочу, чтобы с ними обходились по-человечески. Бывают случаи, где строгость необходима, но жестокость во всяком случае непозволительна. Я желаю, чтобы в день битвы солдаты меня более любили, чем боялись». Действительность, как видим, мягко говоря, несколько отличалась от фридриховских лозунгов.
При этом (несмотря на все неприглядные стороны военной службы нижних чипов и вообще низкий моральный облик прусской армии) Фридрих строго следил за соблюдением в войсках дисциплины в отношении населения. Это же правило распространялось на пребывание армии в оккупированных вражеских странах: малейшее мародерство каралось немедленно и неукоснительно. Король требовал, чтобы даже продовольственные реквизиции сводились к минимуму: за все приобретения прусские фуражиры платили звонкой монетой. Все это имело под собой вполне реальную почву: Фридрих не хотел неприятных сюрпризов в своем тылу.
Это же касалось его поразительной веротерпимости: например, во время Силезских войн монахи католических монастырей не раз вели переговоры с австрийцами и передавали им информацию о расположении и маневрах пруссаков. Многие генералы рапортовали королю о необходимости покарать виновных. «Боже вас сохрани, - отвечал на это Фридрих, - отберите у них вино, но не трогайте их пальцем: я с монахами войны не веду». В сравнении с армиями Франции и Австрии, чья солдатня отличалась крайней разнузданностью, пруссаки казались вообще ангелами во плоти. Да и вполне дисциплинированные русские частенько прибегали к повальным грабежам и насилиям, причем это было не «грустными издержками военного времени», а являлось частью общей тактики «выжженной земли», с успехом применявшейся елизаветинскими генералами в Семилетнюю войну. Вся Померания, например, была сплошь выжжена войсками Фермора по его особому приказу. С этой же целью русские пускали вперед авангарды из диких татар и калмыков, а также и не менее диких казаков, объясняя совершаемые ими преступления отсутствием у последних «регулярства».
К этому примешивались сильнейшие религиозные репрессии, которые совершались австрийцами и французами с благословления папы: во время Силезских войн, например, венгры попытались физически уничтожить всех «еретиков» в Словакии (гуситов). Фридриху (а он сразу при восшествии на престол объявил себя «протектором» лютеранской религии в Германии) даже пришлось пригрозить, что адекватные меры будут приняты и к католикам прусской Силезии - только этот шаг несколько привел в чувство Вену и Рим.
Чрезвычайно мягким было отношение Фридриха к пленным. Если не считать того факта, что последних частенько насильно вербовали в прусскую армию, а остальном их положение было вполне сносным. Пленных содержали в приличных условиях, исправно кормили и даже одевали. Жестокость по отношению к содержащимся в заключении врагам категорически запрещалась. Известен случай, когда королю представили на рассмотрение рапорт на пенсию одному старому фельдфебелю. Однако Фридрих (отличавшийся феноменальной памятью) вспомнил, что за 15 лет до этого, в кампании 1744 года, тот был уличен в «низком поступке против своих солдат и в жестокости с пленными». Вместо подписи на рапорте король нарисовал виселицу и отослал его назад.
* * *Что же стало причиной множества громких побед Фридриха над многочисленными армиями его врагов? По мнению Г. Дельбрюка, успехи прусской армии «во многом зависели от быстроты ее маршей, умения искусно маневрировать, скорости стрельбы прусской пехоты, мощности кавалерийских атак и подвижности артиллерии». Всего этого, примерно в середине своего правления, Фридрих II действительно достиг. О каждом из этих факторов я и скажу в следующих главах.